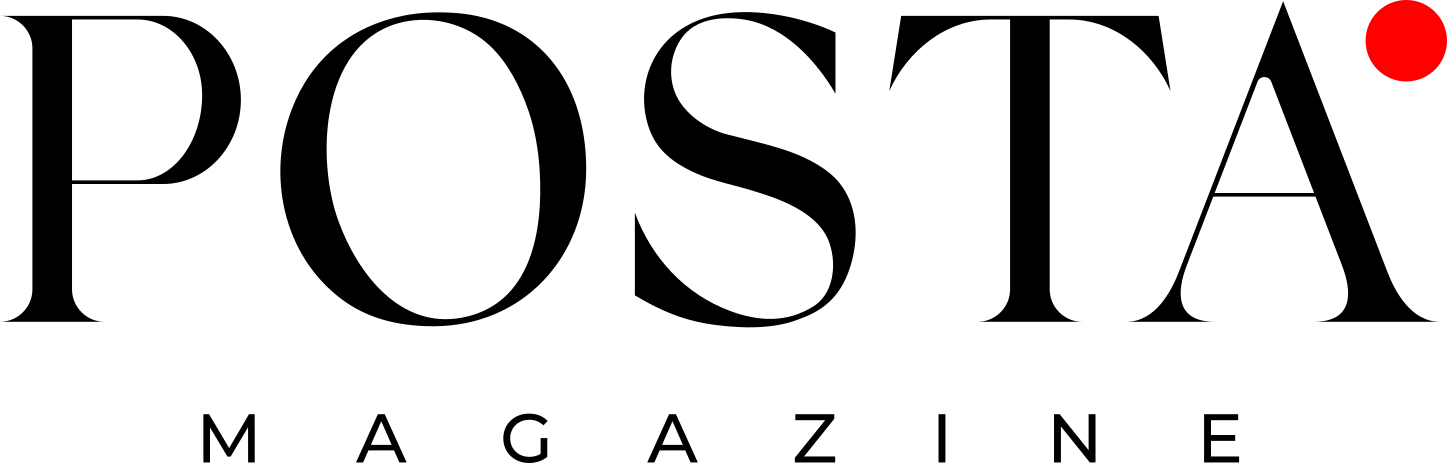Где граница между искусством и провокацией? Как определить ценность того или иного объекта? Насколько важен социальный контекст в том, что принято называть modern art? Об этом и многом другом мы поговорили с Джабахом Кахадо и его братом Заком, участниками Биеннале «Мода и стиль в фотографии».
Интервью прошло за несколько дней
до открытия выставки Torn, объединившей работы американских художников, живущих между Нью-Йорком, Парижем и… Москвой.
Мы встречаемся в студии Джабаха Кахадо, расположенной в соседнем помещении с MSK Eastside Gallery. Модная нынче атмосфера — кирпич и бетон, большие окна без жалюзи и занавесок, чугунные лестницы, грузовой лифт с лифтером — удивительно гармонирует с погодой за окном: утренний дождь сменяется снегом, а еще через несколько минут начинается метель, точь-в-точь пушкинская. Удивляться не приходится — такой он, московский апрель!
Братья одновременно похожи и не похожи друг на друга. И все же их «разность» читается во многом. От одежды — Джабах сегодня в майке с глубоким вырезом, многочисленных цепях и браслетах, перстнях с черепами, в то время как Зак пришел в застегнутой на все пуговицы темной рубашке, — до манеры излагать свои мысли: от более экспрессивной у старшего брата до невозмутимо-спокойной — у младшего.
Наша беседа ведется на причудливой смеси русского и английского языков. Джабах живет в Москве уже около 13 лет, Зак тоже часто здесь бывает, а потому братья отлично владеют «великим могучим», однако в особо эмоциональные моменты переходят на родной английский, позволяющий точнее передать все гамму мыслей и переживаний. Хмурое утро с остывшим кофе в бумажном стаканчике окрашивается яркими красками оживленной беседы.
— Прежде всего, расскажите об экспозиции — как родилась идея проекта и чем новые работы отличаются от того, что вы делали ранее?
![]()
Джабах (Д.): — Идея родилась из сотрудничества с галереей RuArts — часть моих работ выставляется, в том числе там, и Катрин (Катрин Борисов — арт-директор галереи — Прим. редакции) предложила создать проект к московской Биеннале «Мода и стиль в фотографии». Я много лет проработал в глянце, поэтому задумка показалась мне интересной, и мы приступили к реализации. Что отличает эти работы от всех остальных? Прежде всего, обилие цвета. Как правило, я не очень активно использую палитру, поэтому в некотором роде это стало для меня экспериментом. Отчасти это связано с особым, очень светлым периодом моей жизни, и мне захотелось привнести яркие краски, в том числе, и в свои полотна.
Что касается технической стороны вопроса, то это синтез фотографии, живописи, коллажа. Я работаю с платино-палладиевой печатью, позволяющей чрезвычайно достоверно передавать все нюансы цвета и света, пробуя различные техники. В этот раз мне захотелось показать — буквально и фигурально — что под внешним слоем всегда лежит что-то иное, попытаться добраться до сути. Для этого я накладывал фотографии одну на другую и разрывал верхний слой, в соответствии с замыслом.
— Что означает название проекта — TORN? Какие смыслы вы вкладывали в этот термин?
Д.: — Слово Torn означает «разорванный». Оно отсылает нас к технике исполнения. Но также намекает и на суть проекта: показать то, что скрыто внешней оболочкой, «вспороть» ее, чтобы увидеть суть и глубину. В жизни ведь все обстоит точно так же: самое интересное всегда спрятано за фасадом, и чтобы разглядеть это, порой приходится прилагать усилия, в том числе — деструктивные.
В этот момент Джабах поворачивается к брату: «Зак выступил куратором выставки и приглашенным соавтором. Мы работаем в совершенно разных стилях, тем не менее, в нашем творчестве есть параллели». Так к разговору подключается Зак, до этого увлеченно искавший что-то в Facebook* (*Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram* (*Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram) — организация, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации)) — организация, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации):
Зак (З.): — Специально для этой экспозиции я предоставил серию работ, созданных на холсте. Как правило, я предпочитаю другие материалы, но в этот раз мне было интересно сделать нечто, созвучное творчеству Джабаха. Было интересно показать что-то, с одной стороны, похожее, но — с другой стороны — совершенно контрастное. Скажем, в его проекте больше цвета, в моем — черно-белых работ, он рвет свои картины, а я их поджигаю. Источниками вдохновения стали музыка, уличная культура. Я часто обращаюсь к ним в своих работах, но в этот раз акцент был сделан не на ностальгии, а — скорее — прогрессе. Хотелось показать динамику, какое-то движение. И все это, безусловно, «вплести» в актуальный контекст.
![]()
— В мире искусства нечасто случается, чтобы браться работали бок о бок. Между вами нет конкуренции?
Д.: — Мы уже давно живем и работаем вместе, поэтому если конкуренция и существует, то только позитивная. Никогда не делаем что-то друг другу назло! Я творю, прежде всего, для себя, и хотя могу обратиться к брату за советом, креативным мнением, окончательное решение всегда принимаю сам.
З.: — Мне очень легко работать с Джабахом! Я часто выступаю куратором его выставок, и даже если не всегда согласен с его замыслом или выбранной техникой, всегда чувствую, что он хотел сказать, донести, и разделяю саму идею. С гордостью наблюдаю за тем, как он растет как автор, как прогрессирует в своем творчестве.
Между нами нет конкуренции по многим причинам. Прежде всего, мы работаем в разных техниках, направлениях. Джабах больше увлечен фотографией, живописью, коллажем, я ориентирован скорее на социо-культурную проблематику, которую преподношу посредством инсталляций, скульптуры, различных объектов. Я никогда не учился живописи, фотографии, и благодарен брату за то, что он стал тем, кто преподнес мне первые уроки мастерства.
— Я читала, что вы готовите дебютный полнометражный фильм — уже можно приоткрыть завесу тайны над проектом? Что это будет за кино? Тоже арт-исследование или в большей степени художественная картина?
Д.: — Идея этого фильма родилась еще несколько лет назад, когда я уже жил в Москве. Он состоит из десятка историй, свидетелями которых мы с братом стали. Переехав сюда, мы словно губки впитывали все, что нас окружает, будто вуайеристы «подглядывали» за другими людьми, ведь реальная жизнь — неисчерпаемый источник вдохновения. И — судьба у нас что ли такая? — как-то так получалось, что каждый раз мы оказывались в эпицентре событий. Поверьте, для обычного американца то, что мы увидели — это «реально нереально»! Поэтому мы стремились регистрировать, систематизировать свои наблюдения, которые впоследствии легли в основу фильма. Он ни в коем случае не планируется как документальный, но при этом на 90% состоит из достоверных фактов. Оставшиеся 10% — наши фантазии на тему того, что происходило или могло произойти незадолго до тех происшествий, свидетелями которых мы стали.
Отправной точкой этой работы стала книга Джима Джармуша, в которой он рассказывал о том, что как-то раз заперся дома на 7 дней и ночей, чтобы всего за неделю написать сценарий. Я решил: чем я хуже (смеется)? В итоге поставил себе задачу: подготовить сценарий не более, чем за 5 суток. В то время я был в Египте, и вместо того, чтобы наслаждаться морем и солнцем, безостановочно писал-писал-писал… А после того, как «заготовка» была завершена, стал встречаться с профессиональными сценаристами, адаптаторами, которые помогли довести задуманное до финальной точки.
Честно сказать, у нас уже был момент, когда мы решили: время пришло — снимаем! Но, видимо, в тот раз звезды не сошлись нужным образом, проект застопорился. Но я считаю, так даже лучше. Тогда просто было не время. Сейчас мы подходим к съемкам более взвешенно, подготовлено. Заручились поддержкой коллег, одобрением профессионалов. И, кроме того, мне кажется, сегодня сюжет даже более актуален, чем пять лет назад.
З.: — Мы стремились к тому, чтобы максимально задеть, затронуть человеческие чувства. Несмотря на то, что фильм снят в стилистике арт-хауса, не думаю, что он ориентирован на узкую или профессиональную аудиторию. В нем поднимаются темы, близкие всем без исключения, звучит острая социальная проблематика.
Д.: — Идея в том, что современное поколение людей будто бы лишилось разом всех чувств. Как будто все, что происходит вокруг нас, все, что мы видим по телевизору, нас не касается. Как такое вообще возможно?! Я абсолютно убежден: мы несем ответственность за все, что происходит вокруг. Каждый — персонально. И если сегодня мы проходим мимо упавшего человек, решив, что он просто пьян, кто даст гарантию, что завтра, если вам станет вдруг плохо, найдется тот, кто подаст руку помощи?
З.: — Мы стремимся пробуждать в людях эмоций, «вырывать» их из этой эмоциональной спячки.
![]()
— А с этой проблемой всеобщего равнодушия вы сталкивались только в России, или это «мировое зло»?
З.: — Нет-нет, это общемировая, глобальная проблема, особенно актуальная в мегаполисах. Люди превращаются в роботов!
Д.: — События, о которых мы хотим рассказать, происходят в разных местах Москвы в одну ночь. Но мы хотим акцентировать внимание на том, что все то же самое могло бы случиться в любой точке земного шара. Это сложный проект — в нем принимает участие много актеров, требуется специальная техника. Но Бог даст, и в этот раз все сложится.
![]()
Джабах Кахадо с женой Мадиной Каноковой Кахадо и Сати Казановой
— Вот вы упомянули, что живете в России уже 13 лет. Понимаю, что это самый популярный вопрос, но все же: как вы тут оказались? Почему именно Москва? Не самый очевидный выбор для уроженца Нью-Йорка!
Д.: — (Смеется) Действительно, как правило, это первый вопрос, который задают мне журналисты. Это был 2000-й или 2002-й год, я еще учился в Нью-Йорке, проходил стажировку в Лондоне. Кто-то мне рассказал, что в России сейчас глянцевый бум, и я — наугад! — решил написать в несколько редакций. Отправил свои портфолио в «Ом», главным редактором которого в то время был Анзор Канкулов, Harper’s Bazaar Шахри Амирхановой, еще в несколько изданий. И неожиданно получил приглашение: приезжайте, попробуем поработать. Я тут же полетел в Москву. В то время здесь была особая атмосфера: глянец развивался, в нем работали очень яркие, творческие люди, было много тусовок, каких-то закрытых сборищ, творческих студий. Начались постоянные съемки. Мой стиль отличался от того, что тогда делали российские фотографы — они стремились к гламуру, в то время как мне была ближе андеграундная эстетика, обращение к советскому наследию. Это оказалось востребованным. Каждый день был расписан по минуте, какой журнал ни откроешь — везде мои фотографии. Я говорил себе: «Окей, поработаю еще месяц-другой, вернусь в Нью-Йорк». Но время шло, а я все переносил дату вылета. И, в итоге, решил остаться (улыбается).
З.: — Со мной все было проще. Я работал над документальным проектом, путешествовал по миру, и когда Джабах пригласил меня в Москву, решил — почему бы и нет? Меня подкупили его слова о том, что Москва 2000-х похожа на Нью-Йорк 1980-х, мое любимое время. И действительно, здесь оказался огромный простор для творчества — ни на что не похожая, самобытная культура, атмосфера. У нас была цель: если приехать куда-то жить, то не на год или два. Мы хотели «впитать» в себя lifestyle того места, где находились. Поэтому втянувшись в московский ритм, я тоже решил попробовать здесь пожить, тем более было много работы: съемки роликов, рекламных кампаний, art…
![]()
— Среди источников вашего вдохновения — уличная культура. Но мне кажется, что в России, и в Москве в частности, она не очень развита. Или так кажется только не посвященному наблюдателю?
Д.: — С одной стороны, ты права — уличной культуры как в Нью-Йорке, Лондоне или Токио, в России, конечно, нет. Но эта индустрия активно развивается: появляются новые имена, авторы, активисты. В последние 10-12 лет наметился серьезный прогресс.
З.: — Я думаю, уличная культура существовала всегда — другой вопрос, какие она принимала формы. Люди не воспринимали ее как искусство. Сегодня она органично вписывается в мировое движение. И то, что эта тенденция, подхваченная различным галереями, кураторами, даже правительственными организациями, набирает обороты, говорит о ее востребованности.
Интересно другое: в мире представители street art тяготеют к обособленности, они хотят оставаться в пределах улиц. В России я наблюдаю другие процессы: художники, напротив, стремятся стать частью эстеблишмента.
— Ощущаете ли вы, что общество в России пока не очень понимает и принимает современное искусство? И оказывает ли это на вас какое-то влияние? Скажем, прислушиваетесь ли вы к общественному мнению, подстраиваетесь ли под него?
Д.: — Я всегда с благодарностью принимаю чужое мнение, но все-таки стараюсь не ориентироваться на него. Я готов к чему-то прислушаться, но подстраиваться под чьи-то вкусы — однозначно нет. Что касается искусства в целом, думаю, еще лет 15 назад то, что сегодня мы называем modern art и наблюдаем в галереях, показалось бы просто смешным, невозможным. В России очень сильны традиции, наследие классического искусства, люди все еще больше ориентированы на него. Но при этом искусство здесь быстро развивается — энтузиасты есть как среди художников, так и среди тех, кто работает с финансовой составляющей.
Конечно, всегда будут те, кто критикует современное искусство, и — честно — я их понимаю! Сегодня каждый может назвать себя художником, автором. Но как отделить то, что действительно является искусством, от подражательства или откровенной халтуры? Где грань?
З.: — Думаю, важно смотреть на того, кто критикует. Если это профессионал — что ж, к его мнению стоит быть внимательным. Но если это дилетант, любитель? Да, я работаю с modern art, я всю жизнь посвятил уличной культуре, но как я могу оценить классическое произведение?
Д.: — Что касается эстетической составляющей вопроса, тут каждый имеет право на собственное мнение: нравится или нет. Но когда речь заходит о технике, способах воплощения, замысле, концепции — человек должен обладать элементарным образованием, чтобы суметь адекватно оценить и, соответственно, похвалить или раскритиковать произведение.
З.: — Обратная связь со зрителем очень важна — ради нее мы и работаем! Но есть категория людей, экспертных в любых вопросах: сегодня они художники, завтра — дизайнеры, потом — диджеи, затем — рестораторы. Мнению таких людей я бы не стал доверять. Они хватают по верхам, но не стремятся дойти до сути. Нельзя объять необъятное (смеется).
— Но вам не кажется, что современное искусство сегодня чрезмерно коммерциализировано?
Д.: — Безусловно, такая проблема существует. Зачастую задача художника — не реализовать свои амбиции, а понравиться тому, тому и тому. Деньги, пиар правят миром… Все хотят стать знаменитостями! Но для меня искусство — это, прежде всего, способ удовлетворить себя, а только потом — уже всех остальных.
З.: — Я категорически не согласен с позиционированием: если ты настоящий художник — твои работы непременно должны продаваться. Ведь история знает немало примеров настоящих гениев, которые жили в безвестности, став знаменитыми уже после смерти.
— Вы справедливо заметили, что сегодня чуть ли не каждый второй — художник, артист, представитель творческой профессии. Как отделить, все-таки, что является искусством, а что — нет? Как вы это определяете лично для себя?
![]()
Д.: — Для меня важна эстетическая составляющая. Я должен получать эмоции от созерцания того или иного объекта. Всегда с интересом изучаю новые техники, какие-то оригинальные приемы. Концептуальный art мне тоже близок — когда художник стремится своим произведением сделать какое-то заявление, манифест. Но грань между «настоящим» искусством и нет провести очень сложно. Что для одного — шедевр, для другого, простите, г….о.
З.: — Мне очень важно, чтобы в произведении был заложен определенный смысл, идея. Не буду называть это социально-ориентированным искусством, но подчеркну, что помимо эстетики, техники, важно также и содержание. Мне нравятся смешанные техники, различные аллюзии, ремарки. Я стремлюсь к этому, в том числе, и в своем творчестве.
Конечно, можно делать чудесные работы про цветы, бабочки и прочие прелести жизни, но современный мир гораздо жестче, мрачнее, и мне кажется значимым вписывать свое искусство в реальность, контекст. Между автором и произведением должен существовать определенный диалог: художник видит войны, мятежи, какие-то протестные акции, и не может остаться к ним равнодушен, не может не отразить их в своем творчестве.
Д.: — Связь с реальностью, безусловно, важна, но для меня, чтобы назвать объект «произведением искусства», необходимо также видеть мастерское владение техникой, которая и отличает профессионального художника от того, кто только хочет таковым казаться. Моя племянница в свои 8 лет рисует чудесные картины, и в некотором смысле это тоже искусство. Но, согласитесь, вы вряд ли поставите ее рисунки в один ряд с произведениями мастеров — при всем ее таланте, это было бы просто смешно!
Я полагаю, что все мы — и художники, и зрители — избалованы цифровыми технологиями. Раньше, чтобы сделать талантливое фото, нужно было искать фон, свет, настраивать технику, потом проявлять пленку, даже не представляя, что получилось в итоге. Сегодня все значительно проще: настроил аппарат нужным образом, а что не получилось — довел потом на компьютере. Неудивительно, что все вдруг стали фотографами! Но мне не близок такой подход — я предпочитаю опираться на свои знания, а не на прогрессивные технологии, поэтому и работаю с платино-палладиевой печатью, открывающей поистине удивительные возможности.
— Как вы относитесь к радикальным арт-экспериментам вроде выступления Pussy Riot или акций Петра Павленского? Считаете ли вы их актом искусства?
З.: — Я не знаю, что в головах у этих людей, и не могу сказать, чем продиктованы их действия. Вообще, настоящее искусство всегда было достаточно радикальным, ведь все великие художники были, по-своему, реформаторами. Истинное творчество часто рождается через протест. Другой вопрос — какие формы обретает этот протест. Можно ли считать эти акции искусством? Наверное. Но лично для меня такой подход не близок. В этом нет эстетики, нет мастерства, есть только голая идея, манифест. Я считаю, что настоящее искусство должно, что называется, «цеплять», но оно не должно оскорблять. Я и сам делаю порой провокационные работы (кивает на полицейские щиты, окрашенные пятнами крови — Прим. редакции), чтобы вызвать определенные эмоции, заставить задуматься, но не хочу при этом сделать кому-то больно или вызвать отвращение. Нет, это точно в моем вкусе.
Д.: — Такими «заигрываниями» с искусством можно зайти очень далеко. Сегодня он прибивает мошонку, а завтра что? В таком контексте акт самоубийства тоже можно расценивать как вид искусства, но будет ли он таковым? Мне сложно критиковать этого человека — хотя бы потому, что я никогда бы не смог повторить его опыт. И, безусловно, меня восхищает его одержимость. Но тут крайне важен контекст. Ведь расстрел редакции Charlie Hebdo чье-то извращенное сознание тоже может трактовать как «сакральный художественный перфоманс», однако очевидно, что это совершенно не так.
З.: — Я убежден, что каждый имеет право выражать себя так, как он хочет, но ровно до той поры, пока его действия не начинают затрагивать других людей и, в частности, лично меня. Если тебя нравится истязать себя — пожалуйста, но я не хочу быть частью этого. Хотя этот парень, прибивший себя к брусчатке, — он, конечно, смельчак (смеется).
![]()
— В рамках того, о чем мы говорим, не могу не спросить: должно ли искусство, все-таки, ограничиваться какими-то рамками?
Д.: — Если мы говорим о тотальной свободе в искусстве, мы как бы даем добро на то, что каждый может делать все, что угодно, и утверждать, что это — art. Набросать экскременты на холст и заявить: я вижу таким будущее искусства. Ударить человека и сказать: это был перфоманс.
— Тогда как провести границу?
Д.: — Человеческая логика — вот граница. Внутренняя культура, этика. Это очень тонкая линия, ее важно чувствовать. Ведь как отличить обычную порнографию от искусства «ню»? Только посредством хорошего вкуса автора.
З.: — В искусстве сегодня очень много маркетинга. Все скандальное хорошо продается. Это масштабная мировая игра, в которую вовлечены огромные деньги, и, что лукавить, нам тоже нравится быть ее частью. Кому хочется творить и оставаться не признанным? С утра до ночи совершенствоваться, но оставаться голодным?
Д.: — Что тут скажешь: только Бог рассудит, кто был художником, кто нет (улыбается). Но думаю, парень, прибивший гениталии, вряд ли будет оценен по заслугам (смеется).
— Джабах, Зак — последний вопрос. Мы много слышим о давлении власти на артистов — речь, в первую очередь, о театре и кино, но не только. Вы или ваше коллеги ощущаете какой-то прессинг?
![]()
Д.: — Нет, не сказал бы. Мы никогда не сталкивались с каким-то противоборством со стороны властей. Единственное, что меня удивило, — когда мы собрались снимать фильм, нас пригласили на встречу в министерство культуры, чтобы обсудить сценарий. Это было поразительно — в Америке такое представить нельзя. Не потому, что там нет никакой цензуры, просто каждый год производится такое количество фильмов, что если бы чиновники встречались с каждым автором, очереди бы были нескончаемыми. Но меня это приглашение ничуть не смутило. Скрывать нам нечего, бояться — тоже. Так что я воспринял это просто как опыт. Очередной удивительный опыт жизни в России.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()