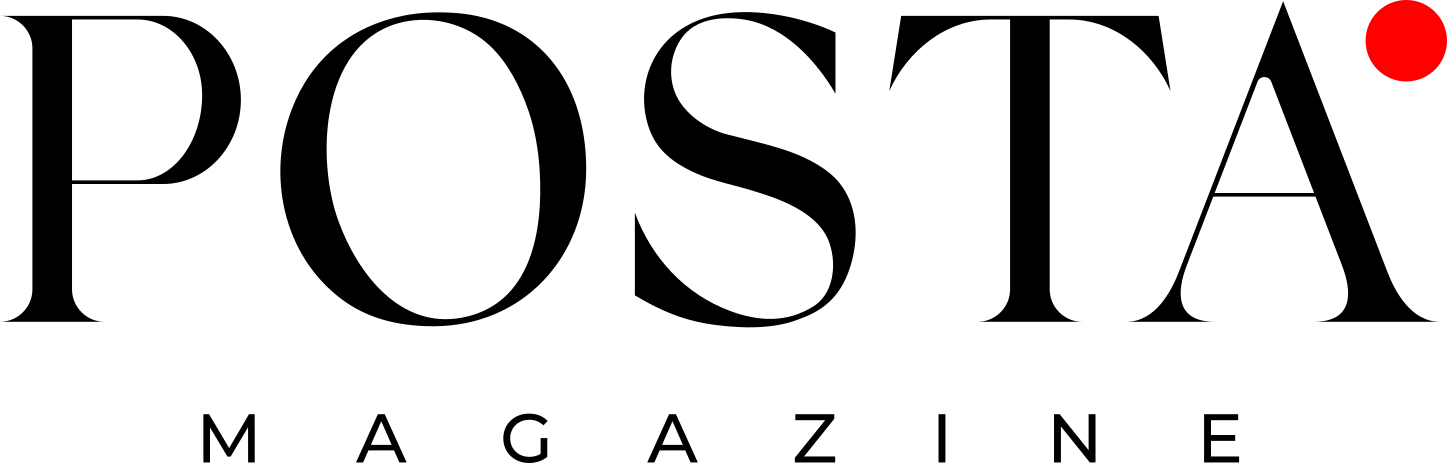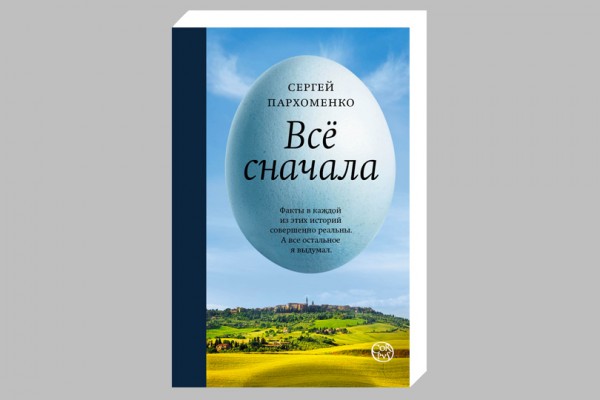Жизнь Эдварда Хоппера в рассказах современных писателей, ранний Трумен Капоте и зрелый Иэн Макьюэн — об этих и других новинках октября в традиционном книжном обзоре Posta-Magazine.
А также: непрошедшее время в новом романе Сергея Кузнецова и гастрономических зарисовках Сергея Пархоменко.
![]()
Сергей Кузнецов. Учитель Дымов
М.: Редакция Елены Шубиной, 2017
Первое предложение «Учителя Дымова» — дезориентирующий атональный аккорд, за ним последует плавная и уже не прерывающаяся мелодия — напоминает ту самую кочку, о которую спотыкается в полумраке заснеженного леса героиня романа, чтобы, пробыв с читателем несколько страниц, уступить место в истории, дать право голоса другим персонажам, которые, в свою очередь, на протяжении десятилетий будут сменять друг друга. Вступает чеканный ритм, как у механизма немецких часов Selza, — они тоже появятся в книге: не столько хронометр, сколько метроном; примета времени, балансирующего на секундной стрелке. «Учитель Дымов» — семейная сага, действие которой происходит с 1940-х по 2010-е годы. В эти декорации Сергею Кузнецову удалось вписать удивительно спокойный роман, и его тихая интонация, при этом уверенное, но ни в коем случае не навязчивое звуковедение (остается лишь догадываться, какой муштрой, самодисциплиной, бесконечными переписываниями дались автору эти строки, будто бы перетекающие одна в другую) вызывают устойчивые ассоциации со «Стоунером» Джона Уильямса — как и «Дымов», книге о преданности собственному делу, о чуткости к внутреннему зову, о приятии времени, в котором тебе довелось жить. И о том, что время порой бывает благосклонно к тем, кто умеет различать то самое тиканье; его тайный ход.
|
|
![]()
На солнце или в тени
М.: АСТ, 2017. Перевод с английского Т. Покидаевой и А. Соколова
«Картины [Эдварда] Хоппера находят отклик в душе самых разных людей в Америке и во всем мире. Но я искренне убежден, что особенно сильно они воздействуют на тех, кто читает и пишет», — говорит в предисловии к сборнику составитель Лоренс Блок. Во многом именно рождающиеся в голове истории (хотя сам Хоппер неоднократно настаивал на том, что его полотна бессюжетны) заставляют пятьдесят лет после смерти художника пристально вглядываться в его картины, возвращаться к ним снова и снова. Недосказанность, присутствующая в его работах, неизменно подстегивает воображение, а ощущение от просмотра той или иной картины Хоппера можно сравнить с послевкусием от прочитанной книги — она навсегда остается с тобой, расширяя границы твоей памяти, образ, однажды привидевшийся писателю или художнику, становится частью биографии зрителя и читателя. Собранные в этой книге рассказы (среди авторов Стивен Кинг, Джойс Кэрол Оутс, биограф художника Гейл Левин) — попытка, оттолкнувшись от работ Хоппера, провести что-то вроде мостков из его мира в наш, сегодняшний, нащупать невидимую нить, связывающую воедино судьбы художника и зрителя. Картина в данном случае — что-то вроде телепорта. Она стирает грань между ушедшим автором и человеком, ведущим с ним диалог десятилетия спустя. Прямое доказательство существования как минимум одной из форм бессмертия.
|
|
![]()
Сергей Пархоменко. Всё сначала
М.: Corpus, 2017
Быть может, не вполне уместное сравнение (хотя, кто вообще эти рамки «уместности» определяет?), и тем не менее: первым делом при чтении гастрономической livre de vie Сергея Пархоменко на ум приходит бунинская «Жизнь Арсеньева». Нет, мы не будем притягивать несуществующие параллели, дело в схожести не самих текстов, а именно в ощущениях: свобода и раскованность, с какими автор подбирает слова и расставляет их на законные, единственно возможные места, восприимчивость к окружающему миру со всеми его звуками, запахами и вкусами, не раз и не два вызывают в памяти невольные и при этом вполне конкретные рифмы. Впрочем, все это на первых страницах, там, где речь о детстве и юности. В целом же «Всё сначала» — это какой-то изобретенный Сергеем Пархоменко новый литературный жанр, потому что книга его, несмотря на подробные рецепты и списки продуктов (а в каком-то смысле, им благодаря) — это, конечно же, литература. Рассказ о меняющемся времени, о вроде бы преходящей и вместе с тем непреложной красоте момента, о том, что радость жизни дается человеку не сама собой, что это навык, которому можно научиться и, в общем, необходимо в себе развивать — не вопреки окружающей действительности и череде трансформирующих мир событий, а именно во внутреннем соответствии с данными тебе обстоятельствами.
|
|
![]()
Трумен Капоте. Если я забуду тебя
М.: АСТ, 2017. Перевод с английского И. Дорониной
Первый роман Трумена Капоте «Другие голоса, другие комнаты», опубликованный в 1948 году — писателю исполнилось двадцать четыре, — даже у самых благосклонных критиков поначалу вызывал множество вопросов, смысл которых, впрочем, сводился к одному: «Как у столь молодого автора получилось создать такое зрелое произведение?» Впоследствии Капоте не раз говорил о том, что недоумение рецензентов в целом ему понятно, однако никто из них почему-то не учитывал того факта, что писать он начал в восемь (!) лет, а к одиннадцати годам писательство — без преувеличений — стало для него ежедневной многочасовой рутиной. Юношеские тексты Капоте, вошедшие в сборник «Если я забуду тебя», — не столько даже рассказы, скорее, зарисовки, ученические этюды, порой изобилующие дотошными, в чем-то избыточными, а где-то и вовсе утомительными описаниями пейзажей и внешности героев. Однако уже здесь, в этих местами робких и подражательных текстах сквозь каждую страницу просвечивает неординарность дара Капоте; не просто преданность и любовь к печатному слову, но какая-то бульдожья хватка, яростное желание и готовность соответствовать однажды выбранному пути.
|
|
![]()
Иэн Макьюэн. В скорлупе
М.: Эксмо, 2017. Перевод с английского В. Голышева
На первой странице нового романа Букеровского лауреата Иэна Макьюэна мы узнаем, что главный герой — эмбрион, текст — поток его сознания («Я погружен в абстракции, и только умножение связей между ними создает иллюзию известного мира»), а мать, сидеть в животе у которой на девятом месяце беременности невыносимо тесно, замышляет убийство. Немного позже выяснится, что в роли невинной жертвы выступает отец, учинить над ним расправу родительница планирует вместе с дядей еще не родившегося ребенка, и вся эта Умная и Неординарная история — ни что иное, как одна большая реминисценция «Гамлета» (для пущей наглядности — ну, мало ли кто не догадается — роман предваряет эпиграф из Шекспира). Ум и неординарность, судя по всему, — два определяющих понятия в персональной системе ценностей Иэна Макьюэна. В погоне за этими двумя он не щадит никого, будь то персонажи его романов (напоминающие кого угодно, но только не живых людей) или читатель (в голову которого авторские идеи вбиваются кувалдой, а потому в определенный момент невольно начинаешь задаваться вопросом: не считает ли автор тебя идиотом?), подчас, судя по всему, забывая, что литература — все-таки нечто иное, нежели трансляция собственных философских взглядов и математическая выверенность сюжета.