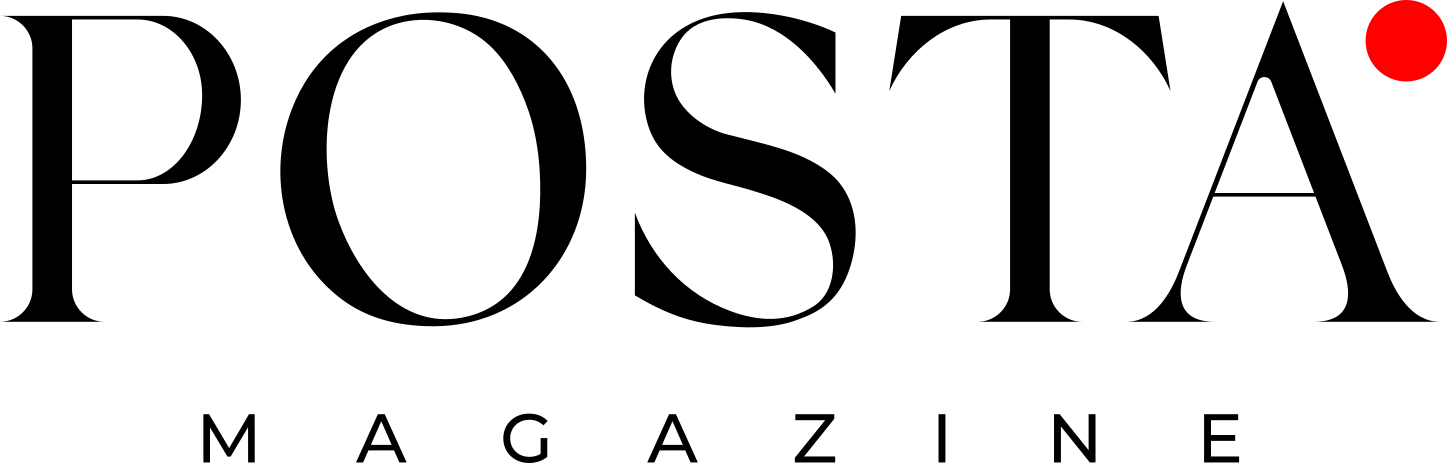Люди, которые смотрели и пока еще смотрят телевизор, наверняка согласятся, что Леонид Парфёнов стал ключевой стилеобразующей фигурой для целого поколения телеведущих и корреспондентов. С экрана на нас то и дело выпрыгивают то откровенные клоны, то не очень хорошие парфеновские копии, причем вне зависимости от их гендерной принадлежности.
Автор и ведущий программы «Намедни», а также почти полусотни документальных фильмов, соавтор первых двух и горячо любимых народом «Старых песен о главном» осваивает новый жанр: в феврале в YouTube появился канал «Парфенон» (так давно нарекли Парфёнова коллеги по цеху) — видеоблог наблюдений за событиями недели. О творческих планах, о «Русских евреях» и «Русских грузинах», о рэпе и любви к работе начинающий блогер Леонид Парфёнов рассказал Нонне Газаевой — к удаче последней, редактору Парфёнова в «Намедни» с 1994 по 1996 год.
Нонна Газаева: Зачем ты решил делать «Парфенон»?
Леонид Парфёнов: Меня долго уговаривали, разные люди говорили: «Это должно быть… Вот ты же… Ну, что же такое…» Это не Дудь меня уговорил — у него это прозвучало публично, но это было просто одно из многих «а что же нету». Типа, уже просто неприлично. Меня несколько раз Андрей Лошак знакомил с разными продюсерами YouTube, и с одним из них, Ильей Овчаренко, мы договорились. Я знал заранее, каким я могу быть, несмотря на то что не видел до сих пор ни одного YouTube-канала и не знаю, какие там существуют законы жанра. Потому что у меня есть такой навык — произнесения журналистики устно.
— «Парфенон» — это YouTube-версия программы «Намедни»?
— Мне говорят, что это похоже. Можно отшучиваться: мол, что ни начну собирать, получается автомат Калашникова. Поскольку стиль — это человек, это довлеет. Но основной вопрос не в том, что снова «Намедни», а в том, что снова я. В профессиональном отношении часто оказывается, что «Намедни» и я — это почти тождественно. Потому что и в фильмах, даже про «Русских евреев», мне говорили, что в методе чувствуются «Намедни».
![]()
— То есть тебя можно назвать брендом?
— Я про это не думаю. Я пытаюсь объяснить, почему может показаться, что, чего ни делаю, все это похоже на «Намедни». Ничего, значит, другого не умею. Но у нас не такой современный медиарынок в России, чтобы можно было чего-то на нем через бренд монетизировать.
— Да нет, нормально здесь все монетизируется, очень даже неплохо. Вон Дудь прекрасно монетизирует себя.
— Ну, он этим занимается «фултайм», и для него это судьба. Для меня это судьбой не является и уже не станет.
— Почему?
— Потому что, если я буду снимать «Русских грузин», то «Парфенон» я отодвину в сторону. Меня очень расстраивает, что сейчас замедлилась книга «Намедни» про 1920-е годы — я не могу уделять ей должное время. Получается, что только понедельник-вторник я работаю над новым томом «Намедни», а потом должен чего-то так или иначе делать с блогом, а у меня еще масса других дел, помимо работы. Я слишком поздно к этому пришел.
— Мне кажется, что в данной ситуации слово «слишком» не подходит. Поздно — да, но слишком — не бывает.
— Слишком — в том смысле, что у меня есть масса рабочих обязанностей и без этого и «Парфенон» не может их отменить. И сделать «Русских грузин», и выпустить книги про 20-е, про 10-е годы ХХ века, про 10-е годы XXI века — все это не может быть отменено, я очень хочу это сделать.
![]()
— Кажется, что ты себя чувствуешь свободнее в кадре «Парфенона», чем в фильмах, например.
— Это просто другие законы жанра. Там я тоже свободен, но в рамках других законов. Я фильмы делаю очень свободно, это все авторское, придуманное мной. Но они, конечно, требуют другой отточенности, много чего другого. Они экранно должны быть решены, в «Парфеноне» вообще нет экранного решения, это съемка как на фильмоскоп, даже не на телефон. Но у меня нет ощущения, что там вот я стреноженный, а тут — распеленутый.
— Помню, как ты тщательно относишься вообще к любым подводкам, пишешь и переписываешь их бесконечно. Сколько дублей ты записываешь для «Парфенона»?
— Да можно и с одного! С текстом мне справляться проще всего, это же моя речь, а вот не мое — смотреть за кадром, идет ли запись звука через гарнитуру, не зацепился ли шнур. И даже если все нормально идет, я из-за этого всего дергаюсь, и мне это очень мешает. Но иначе быть не может.
— Какую функцию, в твоем представлении, должен нести «Парфенон»?
— Не знаю. Вы хочете песен? Их есть у меня! Что-то такое…
— К вопросу о твоих подписчиках (370 000 собрал канал «Парфенон» за два месяца со старта. — Прим. авт.), новой для тебя области знаний и ощущений. Ты осознавал когда-нибудь свою ответственность и воспитательскую функцию аудитории?
— Я об этом никогда не думаю. Нужно делать то, что ты считаешь нужным, и знать, что ты никому ничего не должен. Не для того я давно нигде не работаю, чтобы сейчас кто-то мне сказал, что я где-то должен работать. В том смысле, что я занят журналистикой, я ее пишу, создаю, сочиняю, придумываю, с одной стороны, а с другой стороны, я же сам являюсь «анкорменом» (anchorman — англ. «ведущий». — Прим. авт.) собственной журналистики, я ее сам веду. На западных фестивалях переспрашивают: «Он же и автор?» У них это обычно разведено. У меня же это второе ремесло, и в этом качестве я, например, снимаюсь в рекламе. Я знаю, как держаться в кадре, как расправить плечи, как надо говорить, как, даже если ты уставший, сделать энергичной подачу. Вот, собственно, два навыка, которые у меня есть в ремесле.
![]()
— А какой своей работой ты особенно гордишься?
— У меня нет такого: я горжусь вот этой из своих работ. И «гордишься» — не то слово.
— Хорошо: любишь.
— Нет-нет, тоже не то слово. Я люблю сам процесс работы. Вот интересно придумывать, интересно осуществлять эти придумки. Мне процесс нравится. Очень озвучку люблю, и озвучка — это единственное, где я в чужих проектах участвую, озвучивая иногда фильмы. Ну, просто это приятная мне часть технологии. Мне проекты дороги, потому что это я, это мои фильмы, мои тома… Вот «Глаз Божий» мне очень важен как фильм, а просмотров у него не так много, может быть, миллион наберется с двух серий на всех мыслимых ресурсах. Да нет, наверное, не наберется. Может быть, тысяч шестьсот-семьсот за шесть лет.
— Известный факт, что «Русские евреи» — очень дорогой проект.
— Самый дорогой из всего, что мы делали. И на экране это видно. Потому что потребовалась совсем новая эстетика и это пять с половиной часов экранного времени. Чтобы они смотрелись, нужны большие усилия. Я очень горд за ребят из студии «Намедни», за моего соавтора, режиссера и оператора Сергея Нурмамеда и его коллег.
— А «Русские грузины» какими будут, ты уже понимаешь?
— Ну, эстетика будет родственная «Русским евреям». Эта эстетика вся придумана для того, чтобы рассказывать о таких историях людей, историях народов, у которых было массовое обрусение в какой-то период. И настолько массово и настолько ярко, что в элитах они становились второй титульной нацией. Есть такое понятие — «русские грузины». Например, Калатозов, который снимал «Летят журавли». Он ведь на самом деле Калатозишвили. А «Летят журавли» — это русский фильм. Есть такой тип — русский грузинский режиссер. Они обычно эмоциональнее. Ну, то есть русские фильмы в принципе эмоциональные, но русско-грузинские фильмы особенно пылкие.
![]()
— Грузинам, мне кажется, с большим достоинством всегда удавалось сохранять национальную идентичность.
— Шаинский, царствие ему небесное, полагал, что он пишет еврейскую музыку, и я думаю, русская аудитория будет очень удивлена, что «На дальней станции сойду, трава по пояс…» — это еврейская песня. Так что чего они там себе думали? Я думаю, в Москве или где еще грузины никогда не могли забыть происхождение еще и потому, что они три раза в день садятся за стол, который напоминает им о родине. И грузинскую кухню они тоже принесли в русскую жизнь. И много что еще. Ираклий Андроников — уникальный человек-формат. Русский устный рассказ воплощен Андрониковым, урожденным Андроникашвили. Или Окуджава. Последний раз, когда массовый СССР любил красных, — это: «И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной». И когда первый раз полюбил белых: «Ваше благородие, госпожа удача». Это с разницей в четыре года один человек, Булат Шалвович, выразил коллективное бессознательное — или сознательное, какое угодно — русского народа.
— Твой любимый период в истории России?
— У меня нет такого: хочу в XIX век! Я больше всего занимался советским периодом, потому что он до сих пор не ушел. Это то прошлое, которое все еще настоящее, поэтому про него продолжают спорить. И по отношению к советскому периоду люди всегда различают друг друга.
— А ты русский рэп слушаешь? Ты считаешь, что это заслуживающий внимания жанр?
— Есть интересное, да. «Ты человек, измученный Рамзаном». Ну, и так далее. Я не могу себя считать поклонником, я мало чего слушаю, но представление имею.
![]()
— А как тебе рэп-баттлы?
— Что-то из этого интересно, но ясно, что это не мое, я не буду это смотреть взахлеб и дожидаться следующего. Но что-то цепляет, любопытно. Первый раз, когда рэп меня впечатлил, это была группа «Каста», строчка: «Впятером где-то под Питером». Это очень хорошо было сложено. «Вокруг шум, пусть так. Не кипишуй, все ништяк», — это клип, где в квартире висит портрет Баха.
— Я сейчас пытаюсь ознакомиться с совсем молодежной музыкой, есть, например, такая группа — «Пошлая Молли», у них огромное количество поклонников.
— Да, знаю, видел. Видел даже часть интервью этого парня у Дудя. Меня больше беспокоит то, что в Белгороде, кажется, областная администрация заставила отменить их концерт. Вот это мне не нравится, это чушь! Никакая администрация не вправе этого делать. На свой страх и риск люди ездят на гастроли, на свой страх и риск антрепренеры снимают залы. Публика купила билеты — все, здесь не должно быть больше никого между артистом и публикой.
— Последний вопрос: что за средство Макропулоса ты используешь, много лет не меняясь и оставаясь в отличной форме?
— Да не нахожусь я в одной форме! Похудеть килограммов на пять-семь бы надо, по крайней мере. Вот от работы точно худеешь, это несомненно. Допустим, идет озвучка — и через два часа рубашка на спине мокрая. Такие энергетические затраты, ты голосом из джинсов выскакиваешь. Работать надо — вот и вся форма.