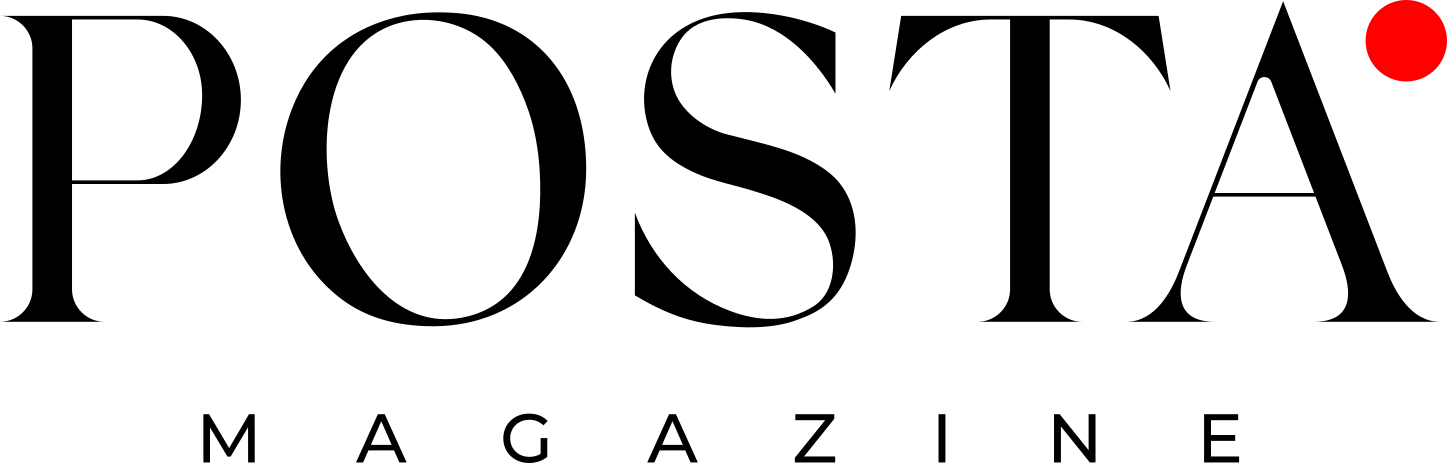В конце ноября Центр документального кино выпускает в широкий российский прокат фильм «Парижская опера», в котором жизнь одного из главных европейских и мировых театров предстает захватывающей, разворачивающейся в реальном времени драмой.
Документальный фильм швейцарского режиссера Жан-Стефана Брона вошел в кинопрограмму фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva и будет показан 17 ноября в Петербурге и 18 ноября в Москве.
Двухчасовая «Парижская опера», почти полностью построенная на крупных планах, создает ощущение присутствия, живого общения с героями фильма, которых мы наблюдаем в самые эмоциональные моменты. Вот молодой российский певец Михаил Тимошенко, только подписавший контракт c Парижской оперой, впервые появляется в стенах «Опера Бастилия», восторженно наблюдает за кумиром Брином Терфелем, в одиночестве разучивает партию, слушая его запись, общается с костюмерами. Вот один из крупнейших театральных режиссеров современности, Ромео Кастеллуччи, выбирает по фотографиям быка, который примет участие в его постановке «Моисея и Аарона» Арнольда Шёнберга. А музыкальный руководитель спектакля, главный дирижер Венского симфонического оркестра Филипп Джордан, жалуется, что не может добиться от хора нужного звучания. «Проблема всех хоров в мире в том, что они отстают, а этот — спешит! Но у нас больше нет времени на репетиции, нам нужно идти дальше!» — восклицает он в видимом отчаянии.
Во Франции — всеобщая забастовка, а директор театра Стефан Лисснер пускает в ход все свои дипломатические способности, чтобы артисты вышли на сцену — хотя бы в концертной версии. Нетеатральная реальность грубо врывается в закрытый мир оперы терактами на «Стад де Франс» и в концертном зале «Батаклан» в ноябре 2015 года. Фильм представляет собой последовательность сменяющих друг друга картин, из которых складывается динамичное, эмоционально напряженное повествование, которое в очередной раз подтверждает очевидную для всех писателей мысль: жизнь — лучший драматург.
|
Жан-Стефан Брон |
Инна Логунова: «Парижская опера» оставляет впечатление не документального фильма, а самого настоящего фикшена — в хорошем смысле. Вы стремились к этому?
Жан-Стефан Брон: Да, действительно, я писал своего рода роман, только не придумывал персонажей, а отталкивался от реальной фактуры — людей, декораций. Собственно, я начинал с некоего «кастинга» героев, которые, как я чувствовал, должны войти в этот роман. Ощущение игрового фильма возникает в силу того, что я не ставил себе задачи быть бесстрастным наблюдателем, я смотрю на людей и все происходящее в театре через определенную, стопроцентно субъективную оптику. Изначально я хотел, чтобы все диалоги между персонажами оставляли у зрителя впечатление погружения в ситуацию, нахождения внутри сцены. Именно поэтому все события — репетиции, спектакли — мы показываем не сами по себе, а глазами того или иного героя. Так, мы смотрим на оперную диву Ольгу Перетятько из-за кулис вместе с ее застывшей в восхищении костюмершей, которая держит наготове бутылку воду и упаковку бумажных салфеток. А закулисье репетиций оперы «Моисей и Аарон» открывает человек, который готовит к выходу на сцену задействованного в спектакле огромного быка, которому он каждый день ставит записи арий, чтобы приучить животное к этим звукам. Таким образом эмоция, заложенная в спектакль, соединяется с эмоциями тех, кто к нему причастен. Я снимал утопию, идеальное общество, каким представляется опера. В то же время это общество, полное классовых, социальных и творческих конфликтов, — которые тем не менее удается преодолевать, чтобы вместе создавать эту утопию — спектакль.
![]()
—
Я читала, что раньше вы не были вхожи в мир оперы и балета. Что вы открыли для себя, работая над фильмом?
—
Тот факт, что я ничего не знал о жизни Парижской оперы, не знал имена звезд, дал мне определенную свободу, у меня не было готовых установок: нужно снять этого артиста, показать тот или иной спектакль. Конечно, я видел раньше постановки Ромео Кастеллуччи, но в фильме меня вела сама жизнь театра. Опера меня интересовала как форма, как модель общества и взаимоотношений между людьми, между коллективным и индивидуальным. В конечном итоге коллектив, будь то опера или балет, всегда берет верх, без этого ни один спектакль не был бы возможен.
А в своей профессии благодаря погружению в музыкальный театр я открыл для себя новый способ работы с музыкой: обычно музыка накладывается на готовый фильм, здесь же я выстраивал визуальный ряд на основе музыки, отталкиваясь от ее внутренней драматургии и экспрессии.
![]()
Филипп Джордан
—
В вашем фильме есть ощущение, что Парижская опера — это некий микрокосм, вещь в себе, практически не связанная с внешним миром…
—
Да, так и есть.
Парижская опера объединяет, по сути, два разных театра. Первый, Опера Гарнье, — это история, вековые традиции; второй, Опера Бастилии — новый, современный театр, открытый Франсуа Миттераном к двухсотлетию взятия Бастилии. В фильме я умышленно не даю указаний, в каком из двух мы в тот или иной момент находимся, так же как не разделяю оперу и балет — именно для того, чтобы появилось это ощущение жизни за закрытыми дверями, отдельно существующего мира. Изначально картина называлась просто «Опера» — как синоним, метафора общества в целом и образа жизни любого крупного музыкального театра в мире. Другой важный для меня аспект фильма — чувство сиюминутности происходящего, истории, которая разворачивается на глазах, ощущение, что вечером премьера, что нужно успеть здесь и сейчас. Потому что как институция оперный театр живет далеко в будущем: скажем, сейчас уже планируется репертуар сезона 2020–2021 годов.
![]()
—
Какими качествами должны обладать люди, артисты, чтобы жить в этом закрытом мире, заниматься тем, чем они занимаются?
—
Мне кажется, необходимо сильное желание быть лучшим. Люди театра во многом иррациональны, они существуют на другом уровне, за пределами нормы, в состоянии неуспокоенности и вечного поиска, причем не только артисты — все, даже технические работники. Они живут ради чего-то, что невозможно определить словами, что нельзя потрогать, потому что их искусство обращается напрямую к человеческой душе.
—
Кинорежиссер — тоже творческая профессия. Вы узнаете себя в ваших героях?
—
И да и нет. В моей профессии тоже большую роль играет интуиция. Но я бы скорее сравнил себя с исследователем, который изучает мир с помощью определенных инструментов. У него есть гипотеза, которая при столкновении с реальностью подтверждается или опровергается. Так и у меня: только мой инструмент — камера, с помощью которой я пытаюсь найти и зафиксировать некую «правду». Но при этом правда таковой является в конкретный, отдельно взятый момент, потому что камера фиксирует мимолетное состояние, которое изменится уже мгновение спустя. Документалист, который говорит, что нашел какую-то универсальную, безусловную правду, лукавит. Мы находимся внутри процесса, и сам факт наблюдения влияет на ситуацию. Кроме того, многое зависит от того, как мы смотрим на происходящее, с какими чувствами. Если вами движет желание понять, то и герои будут теплыми и человечными. А если смотреть цинично, то и люди в фильме будут выглядеть циничными и злыми. Это вопрос выбора оптики.
![]()
—
Ваш фильм практически полностью построен на крупных планах, все эмоции читаются в глазах. Как вам удалось так близко подойти к героям, заставив их забыть о камере и раскрыться в кадре?
—
Это происходило постепенно. Нужно время, чтобы люди поняли, что я хочу увидеть, и приняли это. И здесь как раз важно не забывать, а, наоборот, помнить о камере, но позволить себе быть настоящим, максимально правдивым, максимально собой в момент съемки. Что требует определенных усилий и в какой-то степени мужества. Так, сцену с балериной на последнем дыхании после партии мы снимали одиннадцать раз — пока она наконец не поняла, что мне интересно именно это критическое состояние, и не согласилась показать его перед камерой.
—
Как вы в этом в фильме и в других картинах держите баланс между эмоциональной включенностью и необходимостью определенной дистанции между режиссером и героями?
—
В том-то и дело, у меня ее нет. Я стараюсь подойти как можно ближе. Это задача журналиста — соблюдать объективность, оставляя дистанцию между собой и событиями и их героями, чтобы иметь возможность критиковать, показывать ситуацию с разных сторон. Документальный фильм — это работа художника, это способ смотреть на жизнь, показывая ее такой, какой она мне представляется. Это не реальность, а ее реконструкция.
—
Вы сдружились с кем-то из ваших героев?
—
Да, конечно, я всегда стараюсь завязывать дружеские отношения, проявлять эмпатию к своим героям, ставить себя на их место. Это сложно эмоционально, порой я клял себя, порой — их, что никак не могу уловить нужное мне психологическое состояние, но своих метаний, конечно, не показывал.
![]()
—
Сколько времени вы провели в театре?
—
Шесть месяцев ушло только на подготовку съемок. На протяжении сезона-2015/2016 я практически каждый день приходил в театр, не снимая, а просто наблюдая и собирая материал. Сами съемки длились год, за который я отснял около 80 часов материала, что немного. Опять же, я не снимал постоянно, работа камеры требует максимальной концентрации от героев — ни в коем случае не игры, а именно этого понимания. Включение микрофона означало, что вот мы сейчас делаем что-то вместе, что они принимают эту ситуацию и готовы раскрыть какую-то важную часть себя перед зрителем. Это как сигнал «Мотор!» в игровом кино.
—
Какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать человек во главе такого сложного организма, как Парижская опера? Какое у вас осталось впечатление от общения с интендантом театра Стефаном Лисснером?
—
Мне кажется, это профессия, у которой в современном мире нет аналогов. Наверное, самое близкое сравнение — директор голливудской студии в 50-е годы прошлого века. Это человек, который держит в голове два десятка спектаклей репертуара. Который, с одной стороны, обладает художественным видением: он выбирает режиссеров, дирижеров, может влиять на состав исполнителей, назначает художественного руководителя балета, а с другой — отвечает за политическую составляющую. Она, в свою очередь, включает в себя внешнюю политику — решение стратегических и финансовых вопросов с министерством культуры — и внутреннюю, со всеми конфликтами в труппе, о которых я говорил. Что особенно важно, Лисснер — человек, который очень любит артистов и с большим уважением относится к их противоречивости, уязвимости, порой неуравновешенности, понимая, что все это — часть их творческой природы. «Нормальный» человек, наверное, с трудом нашел бы с ними общий язык. И вообще мне кажется, мир театра со всеми его подводными течениями и камнями он любит больше, чем реальность за его пределами.
—
В чем, по-вашему, отличие гения и таланта?
—
Мне кажется, в гениальных людях чувствуется особенная вибрация, которая необязательно проявляется в экспрессивности поведения. Они видят то, что не видит никто другой. Гении — всегда визионеры.
![]()
Стефан Лисснер
Детали
В прокате с 23 ноября