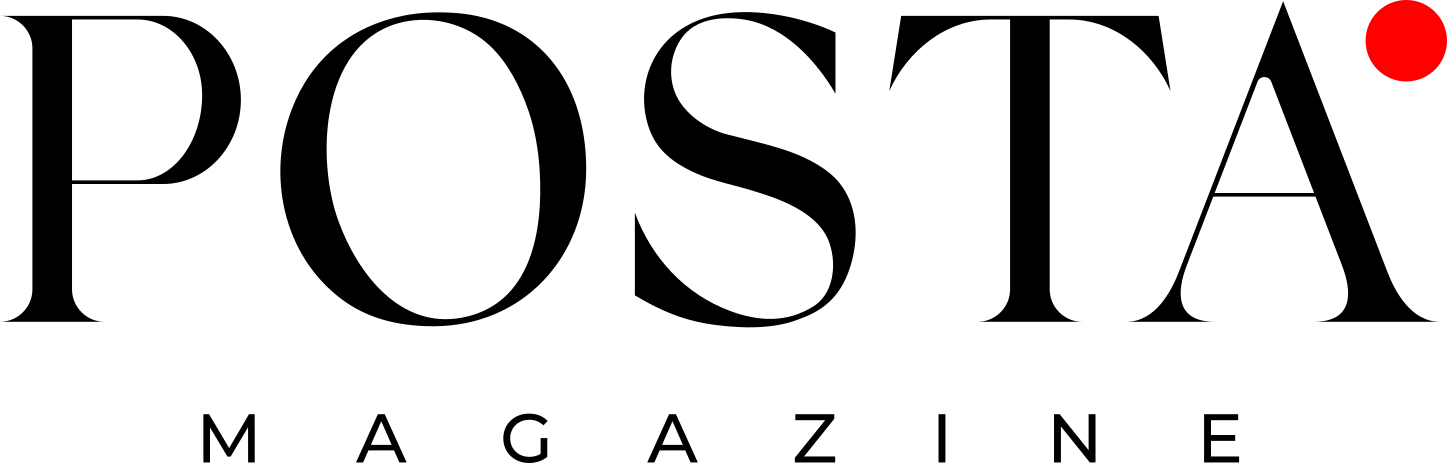В Центре Вознесенского состоялась премьера нового спектакля Мастерской Дмитрия Брусникина «В.Е.Р.А.». В его основе лежит поэтическая драма Андрея Родионова и Екатерины Троепольской, действие которой приходится на конец оттепели.
Фото: Вова Яроцкий
Название спектакля, созданного совместно с Центром Вознесенского, представляет собой акроним из начальных букв фамилий главных поэтических голосов 60-х: Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Беллы Ахмадулиной.
Мы поговорили с Андреем Родионовым и Екатериной Троепольской о временных параллелях с современностью, о том, кому мы сегодня верим, а также о том, чем борщевик похож на человеческую жизнь.
Поэты и драматурги Андрей Родионов и Екатерина Троепольская давно сотрудничают с Мастерской Брусникина: по их пьесам в стихах на сцене Центра им. Вс. Мейерхольда были поставлены спектакли «Сван» и «Зарница». В первом они придумали страну, очень напоминающую Россию, в которой все говорят стихами, а для того, чтобы получить гражданство, мигранты должны сдать экзамен по стихосложению. В «Зарнице» же рассказывается история патриотического квеста в волшебном лесу, где старые русские боги враждуют с новыми, а подростки влюбляются в идеологических оппонентов. Стиль Родионова и Троепольской — ирония без попыток навязывания ярлыков и разделения на «своих» и «чужих», «правильных» и «неправильных», право делать выводы они оставляют за зрителями. На вопрос о том, во что они сами верят, отвечают: в работу. И в поэзию, конечно.
![]()
Инна Логунова: Действие спектакля разворачивается в 1962 году — это время разгрома Хрущевым печально известной выставки к 30-летию МОСХа в Манеже и Карибского кризиса. До формального конца оттепели, завершения правления Никиты Хрущева остается каких-то пару лет. Почему вы выбрали именно этот год, который многие исследователи называют фактическим концом оттепели?
Андрей Родионов: Здесь мы были не совсем свободны в своем выборе, так как «В.Е.Р.А.» — это коллективная работа. Было предложение Центра Вознесенского — сделать спектакль, связанный с текущей выставкой «Им 20 лет».
Екатерина Троепольская: А сосредоточиться именно на этом времени была прежде всего идея режиссера, Сережи Карабаня. Конечно, самый очевидный вариант — сделать веселый, красивый, праздничный спектакль в духе сериала «Стиляги», но Сереже был нужен переломный, кризисный момент. Момент какого-то уходящего счастья и свободы. Или видимости счастья и свободы. В этих ключевых точках есть драматургия, заложенная исторически. Это была коллективная работа, которая сочинялась таким образом, чтобы всем было что сказать на эту тему.
— Понятно, почему в тех исторических реалиях уходит свобода, а почему уходит счастье? Ведь спектакль прежде всего о молодых людях, у которых, по идее, вся жизнь впереди.
А.Р.: Об этом и говорит на сцене Евгений Евтушенко в своем стихотворении: вы, мальчики, сначала жестокие, а потихоньку начинаете добреть. И так поколение за поколением: раз подобрел, значит, постарел. Куда уходит счастье? Не знаю, может, оно наоборот приходит с возрастом. Я не знаю. Оно вроде никуда не уходит, но безусловно этот спектакль в том числе и о том, что много знания, много печали.
![]()
Екатерина Троепольская в спектакле в роли Екатерины Фурцевой
![]()
— Вслед за «Давайте, мальчики!» Евгения Евтушенко в спектакле звучат стихотворения Грибачева «Нет, мальчики!» и Рождественского «Да, мальчики!». Грибачев — представитель старшего поколения — обвиняет молодых в том, что они какие-то не такие, не так одеваются, не о том думают и говорят: мол, мы вас в войну спасли, а вы не цените. На что Рождественский отвечает: да, не были на фронте, не сидели в окопах, но имеем право жить так, как считаем нужным. Но при этом все равно остается ощущение, что младшие все-таки испытывают комплекс вины за свое относительное благополучие. Что за поколенческий конфликт, на ваш взгляд?
Е.Т.: Здесь действительно происходит навязывание некоего комплекса старшими младшим: мол, вы недостаточно героические, не прошли наш путь, чтобы иметь право сейчас что-то говорить. Сначала подрастите, поживите, переживите, а потом посмотрим — по крайней мере такая позиция заявлена в стихотворении Николая Грибачева, который действительно был на войне и все это пережил. Кстати, впервые историю этого поэтического противостояния мы вычитали у ЖЖ-юзера Вадима Нестерова. Пользуясь случаем, хотим его за это поблагодарить.
А.Р.: Но вообще мы не про это делали текст. Там в самом финале есть сцена, где мужчина в белой рубашке спит под борщевиком. Это такая рифма к знаменитой картине Сальвадора Дали «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения». Наша пьеса и спектакль — это сон про 60-е. Это серия всплывающих в мозгу образов, из которых и возникает живой спектакль, гораздо более реалистичный, чем если бы мы делали документальную картину. Понятно, что настоящие Зорин (Валериан Зорин, постоянный представитель СССР при ООН и Совбезе ООН в 1960-162 годах. — Прим. ред.) и Стивенсон (Эдлай Стивенсон, постоянный представитель США при ООН в 1960-1965 годах. — Прим. ред.) не говорили в Совете безопасности стихами. Но это передает атмосферу, ощущение времени. Так, в спектакле два раза повторяется один и тот же разговор Вознесенского с Хрущевым. Известно, что Вознесенский его очень тяжело переживал. И вот мы представили, как он раз за разом повторяет про себя этот разговор. То так, то сяк. А что сказал Хрущев? А что ответил я? Вот это нас волновало. Больше, чем дети это войны или не дети войны.
![]()
— Актеры в спектакле — это сегодняшние двадцатилетние. Так же как герои фильма Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», который лег в основу текущей выставки в Центре Вознесенского. Эта картина — в том числе про этот поколенческий разрыв, а также про поиски себя в том сложном времени. Как, по вашим ощущениям, современные двадцатилетние воспринимают шестидесятые?
Е.Т.: Даже внутри нашего коллектива мы все разновозрастные, Андрей вот самый старший…
А.Р.: … у нас разница двенадцать лет…
Е.Т.: … Сережа ближе ко мне, но все равно младше меня. Брусникинцам между 25 и 30. А студенты мастерской, которые сейчас выпускаются, еще младше. И, конечно, у каждого в отдельности разный бэкграунд.
А.Р.: Мы безусловно рисковали получить на выходе винегрет. И вдруг… Вот я несколько раз уже посмотрел и посмотрю еще — возникает горчайший осадок от того, что так было всегда.
Е.Т.: И так будет.
А.Р.: Сегодня разве что мобильные телефоны и прочие гаджеты появились. А в остальном все так же.
Е.Т.: Сережа видит много параллелей с сегодняшним днем. Мы тоже — но в чем-то другом. И все вместе мы складываем эти наши видения в некий пазл.
А.Р.: А молодые просто примеряют на себя. Это не винтажное чтение стихов, они читают так, как ощущают их сейчас.
Е.Т.: Поэтому стихотворение Евтушенко, которое случится в самом финале («Мама и нейтронная бомба» — Примеч. ред.), звучит как очень современное, если убрать из него шестидесятнический пафос подачи. Его бы мог написать, например…
А.Р.: Сваровский.
Е.Т.: Да, именно. То есть в спектакле мы пытаемся встряхнуть окаменелые формы 60-х. Это решаемая задача, что и делает спектакль живым. По крайней мере для нас.
![]()
![]()
— А чья была идея использовать тексты Мизулиной и Собянина?
Е.Т.: Сережина. И он, и мы предлагали и другие тексты, но именно те, что звучат в спектакле, сложились в композицию. Причем звучат совершенно во вневременном пространстве. Хоть туда, хоть сюда вставляй: их с таким же успехом можно было бы услышать в 1960-е.
— В оформлении спектакля и в одной из сцен возникает образ борщевика — как я это считываю, не только как примета времени, но и образ некоего ядовитого ментального сорняка…
Е.Т.: Это задумка Вани Боуден, художника спектакля.
А.Р.: Мы погуглили борщевик, чтобы выяснить, когда его стали выращивать, и с удивлением нашли письмо Хрущева ученым.
Е.Т.: Да, в спектакле это абсолютно реальный вербатим. И визуально, это, конечно, очень мощный образ. Он действительно и ядовитый, и повсеместный, хотя вроде бы с каким-то полезным замыслом.
А.Р.: Из него, например, делают народные музыкальные инструменты.
Е.Т.: А еще он дает очень красивые тени. И к тому же он напоминает одновременно и фейерверк, и взрыв.
А.Р.: А в период печали человек может сказать, что он и жизнь человеческую напоминает. (Смеется.)
![]()
— В спектакле в разговоре с Хрущевым Вознесенский говорит, что не представляет своей жизни без коммунизма. Эта вера в коммунизм, незапятнанный, неискаженный трагическими поворотами истории — на самом деле примета оттепели в целом: мы это видим и у того же Хуциева, и у Михаила Ромма в «Девяти днях одного года», у многих других. Что это, по вашему мнению? Идеализм? Прекраснодушие?
А.Р.: Это реакция на страшные годы сталинизма. После смерти Сталина нужно было как-то пережить все то, что произошло.
Е.Т.: Собственно, это у нас в общем замысле, в самом названии «В.Е.Р.А.», которое, опять же, придумал Сережа Карабань. Когда работали над пьесой, мы смотрели много хроники, особенно новостных выпусков. И то, что в них показывалось, это, конечно, и есть рай. И социалистический рай во многом держался на искренней вере в него людей. Наверное, сейчас есть тоска по той искренности, которая сегодня практически невозможна. Разумеется, это был медийный обман, но вера была настоящей.
А.Р.: Это был такой уровень контроля за мозгами, что о расстреле в Новочеркасске (Жестокое подавление забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода в 1962 году, потребовавших повышения зарплаты. При разгоне демонстрации было убито 26 человек и 87 ранено. — Прим. ред.) люди в нашей стране узнали лишь в 1987 году, во время перестройки.
Е.Т.: По большому счету их вера была убеждением в том, что развитие общества должно вести к тому, чтобы максимально улучшать и облегчать жизнь людей. Вполне себе актуальное и сегодня понимание: левацкие взгляды разделяет много кто из интеллигенции. И мы действительно видим успешное воплощение идеи социализма с человеческим лицом в странах, которые еще в недавнем прошлом были капиталистическими. Потому что все люди заслуживают счастья, и к этому должно стремиться человечество.
![]()
![]()
— А в кого или во что верите вы? Вы сегодняшние?
А.Р.: Смотрите, мы здесь в Центре Вознесенского ведем поэтическую студию, причем для молодежи она бесплатная. Пишем пьесы в стихах, их ставят. Устраиваем фестиваль видеопоэзии — роликов, которые на стихи современных поэтов снимают известные и неизвестные режиссеры. Организуем поэтические фестивали. То есть мы по самое горло окружили себя поэзией. Создали мир, как в сказках про Ивана Царевича с его заветной шкатулкой, открыв которую вы попадаете в сад с райскими птицами. Но понятно, что шкатулку приходится время от времени закрывать, потому что есть реальный мир, с договорами, отчетами и прочими буднями.
Е.Т.: На самом деле не иногда, а довольно часто, потому что среда довольно агрессивная. То есть мы верим просто в работу, в то, что нужно заниматься своим делом. Мне сложно присоединиться к какой-то внятной идеологии. И тем более сложно говорить о каких-то религиозных вещах. Просто потому что мы не выбираем функцию транслятора тех или иных вещей. Про себя мы решили, что надо просто бескомпромиссно работать. И желательно любить человека, с которым живешь.
А.Р.: И с которым работаешь.
Е.Т.: А иногда совмещать. (Смеется).
![]()
— Давайте вернемся к роли поэта в обществе. В 1960-е в коллективном сознании он стал этаким мессией, носителем истины. На ваш взгляд, у кого эта роль в сегодняшнем обществе?
А.Р.: В 60-е расцвет поэзии в публичной сфере во многом связан с политическим решением: нужно было показать своим и чужим, что у нас стало полегче со свободой и слова и личности. Кто может это транслировать? Подумали, взвесили — вот они, молодые поэты, они уже есть. Давайте дадим им чуть больше возможностей.
Е.Т.: Некоторое время назад новостные СМИ, пробуя новые форматы, активно предлагали поэтам вести стихотворные колонки на актуальные темы. Я это связываю с тем, что в обилии информации, с которой мы сегодня сталкиваемся, одна из главных трудностей — справляться с информационным потоком, понимать, что в нем правда, и что в этой правде главное.
А.Р.: То есть если поэт рифмовано излагает какую-то новость, то это заведомо не фейк. Наверное, он-то ее проверил.
Е.Т.: Но сейчас это тоже стало сходить на нет. Возможно, потому, что уже нет времени на артистические жесты. Несомненно, наследницей славы 1960-х является Вера Полозкова, собирающая огромные залы. Она красивая, эффектно выступает. Хотя литературная братия долгое время косилась на нее и ее популярность, но сегодня уже перестала.
А.Р.: И приняла на самом деле. Но мы-то Веру любим, нам проще.
Е.Т.: Что касается мессианства, наверное, сейчас эта роль перешла к рэперам. В дни моей молодости, такими носителями правды были рок-музыканты. Сейчас об этом уже смешно говорить — острых высказываний на общественные темы от них давно не слышно.
![]()
![]()
— А театр? Он сегодня на подъеме.
Е.Т.: Театр — несомненно.
А.Р.: В первую очередь театр.
Е.Т.: Театр сейчас собрал в себе все. Он настолько разноформатный, живой, подвижный, несомненно сегодня он является точкой сбора. Поэтому там все: и Вера Полозкова, и рэперы.
А.Р.: Среди наших творческих людей самая консервативная часть — литература. Так, режиссеры, музыканты, актеры, художники — ходят в кино, в театры, на выставки, а вот собратья-литераторы никуда не ходят.
Е.Т.: Нет, почему, вот завтра к нам придет Оксана Васякина.
А.Р.: Они говорят: а зачем?
Е.Т.: Не все так говорят. Поэты моего возраста гораздо более живые, отзывчивые и любопытствующие. Новая молодежная писательская тусовка — в основном левацкая и поэтому отходит от системы статусности, иерархии. Те, кто постарше, за нее по-прежнему очень держатся за нее: кто настоящий поэт, кто не настоящий. Но в целом ситуация постепенно меняется, поэзию становится особой практикой человеческого высказывания, разговора на какие-то важные темы. Думаю, анархия в поэзии приведет к тому, что дела будут обстоять гораздо веселее.