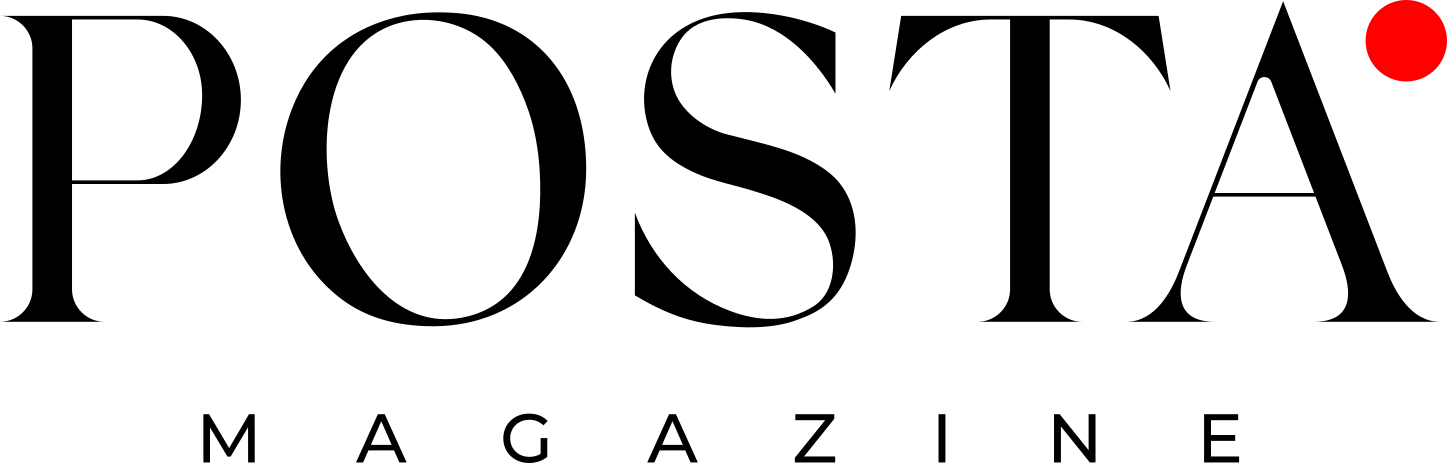Новый сезон Музей современного искусства «Гараж» открывает четырьмя крупными проектами, главным из которых станет масштабная выставка «Свидетельства», объединяющая работы живого классика современного искусства Роберта Лонго, Франсиско Гойи и Сергея Эйзенштейна.
Главный куратор Музея современного искусства «Гараж»
Кейт Фаул и Роберт Лонго
Роберт Лонго,
с которым Posta-Magazine встретился на монтаже выставки, рассказал о том, что скрыто под красочным слоем картин Рембрандта, силе образа, а также «примитивном» и «высоком» в искусстве.
Глядя на гиперреалистичную графику Роберта Лонго, трудно поверить, что это не фотографии. И тем не менее это так: монументальные образы современного города, природы или катастроф нарисованы углем на бумаге. Они почти тактильны — настолько проработаны и детализированы — и надолго приковывают внимание своим эпическим масштабом.
У Лонго тихий, но уверенный голос. Выслушав вопрос, он на секунду задумывается, а потом заговаривает — доверительно, как со старой знакомой. Сложные абстрактные категории в его рассказе обретают ясность и даже как будто физическую форму. И к концу нашей беседы я понимаю, почему.
Инна Логунова: Посмотрев смонтированную часть выставки, я была впечатлена монументальностью ваших образов. Поражает, насколько они современны и архетипичны одновременно. Ваша цель как художника — запечатлеть суть времени?
Роберт Лонго: Мы, художники — репортеры времени, в котором живем. Мне никто не платит — ни правительство, ни церковь, я могу с полным правом сказать: мои работы — это то, как я вижу мир вокруг себя. Если мы возьмем любой пример из истории искусств, скажем, картины Рембрандта или Караваджо, мы увидим на них слепок жизни — такой, какой она была в ту эпоху. Мне кажется, это именно то, что действительно важно. Потому что в каком-то смысле искусство — это религия, способ отделить наши представления о вещах от их реальной сути, от того, чем они на самом деле являются. В этом его огромная сила. Как художник я ничего вам не продаю, не рассуждаю о Христе или политике — я просто пытаюсь что-то понять о жизни, задаюсь вопросами, которые и зрителя заставляют задуматься, усомниться в неких общепризнанных истинах.
А образ по определению архетипичен, механизм его воздействия связан с самыми глубинными нашими основами. Я рисую углем — древнейшим материалом доисторического человека. Ирония как раз в том, что на этой выставке технологически мои работы самые примитивные. Гойя работал в сложной, до сих пор современной технике офорта, Эйзенштейн снимал кино, а я всего лишь рисую углем.
![]()
Роберт Лонго. Без названия (Цензурированная «Герника». По мотивам картины Пабло Пикассо «Герника», 1937 г.), 2014 г.
— То есть вы используете примитивный материал, чтобы вытащить наружу некое древнее начало?
— Да, меня всегда интересовало коллективное бессознательное. Одно время я был просто одержим идеей найти и запечатлеть его образы и, чтобы хоть как-то приблизиться к этому, каждый день делал по рисунку. Я американец, моя жена европейка, она сформировалась в другой визуальной культуре, и именно она помогла мне понять, насколько я сам являюсь продуктом системы образов своего общества. Мы потребляем эти образы каждый день, даже не отдавая себе отчета в том, что они входят в нашу плоть и кровь. Для меня сам процесс рисования — это способ осознать, что из всего этого визуального шума действительно твое, а что — навязанное извне. Собственно, рисунок в принципе представляет собой отпечаток бессознательного — почти все чертят что-то, разговаривая по телефону или задумавшись. Поэтому и Гойя, и Эйзенштейн на выставке представлены в том числе и рисунками.
![]()
Роберт Лонго. Без названия (Пентекост), 2016 г.
— Откуда у вас этот особый интерес к творчеству Гойи и Эйзенштейна?
— В юности я постоянно что-то рисовал, делал скульптуры, но у меня не хватало смелости причислять себя к художникам, да я и не видел себя в этом качестве. Меня кидало из стороны в сторону: хотел быть то биологом, то музыкантом, то спортсменом. В общем-то, определенные задатки у меня были в каждой из этих областей, но на самом деле единственным, в чем я действительно обладал способностями, было искусство. Я подумал, что мог найти себя в истории искусств или реставрации — и отправился учиться в Европу (в Академию изящных искусств во Флоренции. — Прим. авт.), где я много и увлеченно смотрел и изучал старых мастеров. И в определенный момент во мне как будто что-то щелкнуло: довольно, я хочу ответить им чем-то своим.
Картины и офорты Гойи я впервые увидел году в 1972-м, и они поразили меня своей кинематографичностью. Ведь я вырос на телевидении и кино, мое восприятие было преимущественно визуальным — в молодости я даже не читал почти, книги вошли в мою жизнь после тридцати. Более того, это было черно-белое телевидение — и образы Гойи соединились в моем сознании с моим собственным прошлым, моими воспоминаниями. Также меня впечатлила сильная политическая составляющая его работ. Ведь я принадлежу поколению, для которого политика — часть жизни. На моих глазах во время студенческих протестов был застрелен близкий друг. Политика стала камнем преткновения в нашей семье: родители были убежденными консерваторами, а я — либералом.
Что касается Эйзенштейна, я всегда восхищался продуманностью его образов, виртуозной работой камеры. Он очень сильно на меня повлиял. В 1980-е я постоянно обращался к его теории монтажа. Тогда меня особенно интересовал коллаж: как соединение или столкновение двух элементов порождает что-то совершенно новое. Скажем, врезавшиеся друг в друга автомобили — это уже не два материальных объекта, а нечто третье — автокатастрофа.
![]()
Роберт Лонго. Без названия (Испытание «Майк» / Голова Гойи), 2003 г.
— Гойя был политическим художником. А ваше искусство — политическое?
— Не то чтобы я был глубоко вовлечен в политику, но определенные ситуации в жизни заставляли меня занять политическую позицию. Так, в старших классах школы меня по большому счету интересовали только девушки, спорт и рок-н-ролл. А потом полицейские застрелили моего друга — и я не мог больше оставаться в стороне. Я чувствовал внутреннюю необходимость рассказать об этом, точнее, показать — но не столько через сами события, сколько их последствия, замедляя и укрупняя их.
А сегодня для меня главное — остановить поток образов, количество которых постоянно увеличивается. Они проходят перед нашими глазами с невероятной скоростью и оттого теряют всякий смысл. Я ощущаю, что должен их остановить, наполнить содержанием. Ведь восприятие искусства отличается от будничного, скользящего взгляда на вещи — оно требует концентрации и потому заставляет остановиться.
— Это была ваша идея — объединить в одной выставке Роберта Лонго, Франсиско Гойю и Сергея Эйзенштейна?
— Конечно, нет. Гойя и Эйзенштейн — титаны и гении, я даже не претендую на место рядом с ними. Идея принадлежит Кейт (Кейт Фаул, главный куратор Музея современного искусства «Гараж» и куратор выставки. — Прим. авт.), которая хотела поставить мою работу последних лет в некий контекст. Поначалу меня ее затея очень смутила. Но она сказала: «Попробуй посмотреть на них, как на друзей, а не священных монстров, установить с ними в диалог». Когда я все-таки решился, возникла другая сложность: было понятно, что мы не сможем привезти Гойю из Испании. Но потом я увидел графику Эйзенштейна и вспомнил про офорты Гойи, что так впечатлили меня в молодости — и тут я понял, что у нас троих общего: рисунок. И черно-белая гамма. И мы стали работать в этом направлении. Я отобрал рисунки Эйзенштейна, а Кейт офорты Гойи. Она же придумала, как организовать выставочное пространство — сам я, если честно, почувствовал себя немного потерянным, когда его увидел, совершенно не понимал, как с ним работать.
![]()
Подготовка выставки. Роберт Лонго в Государственном Эрмитаже
— Среди представленных на выставке произведений есть две работы, в основу которых легли рентгеновские снимки картин Рембрандта «Голова Христа» и «Вирсавия». Что за особую правду вы искали внутри этих полотен? Что обнаружили?
— Несколько лет назад в Филадельфии проходила выставка «Рембрандт и лики Христа». Оказавшись среди этих полотен, я вдруг понял: вот так выглядит невидимое — ведь религия, по сути, основана на вере в невидимое. Я попросил своего знакомого художника-реставратора показать мне рентгеновские снимки других картин Рембрандта. И это чувство — что ты видишь невидимое — только укрепилось. Потому что на рентгеновских изображениях запечатлен сам творческий процесс. Что интересно: работая над образом Иисуса, Рембрандт нарисовал целую серию портретов местных евреев, но в итоге лик Христа лишен семитских черт — он все-таки европеец. А на рентгене, где видны более ранние версии изображения, он вообще выглядит арабом.
В «Вирсавии» меня занимал другой момент. Рембрандт изобразил ее смирившейся перед судьбой: она вынуждена разделить постель с возжелавшим ее царем Давидом и тем самым спасти мужа, которого в случае ее отказа тот немедленно отправит на войну на верную смерть. На рентгеновском снимке видно, что изначально у Вирсавии совсем иное выражение лица, она как будто даже ждет ночи с Давидом. Все это потрясающе интересно и будоражит воображение.
![]()
Фото: Sergey Karpov
Кейт Фаул, Роберт Лонго и директор Российского государственного архива литературы и искусства Татьяна Горяева
— А если бы ваши работы просветили рентгеном, что бы мы увидели на этих снимках?
— В молодости я был довольно злым — я и сейчас зол, но уже меньше. Под своими рисунками я писал ужасные вещи: кого ненавидел, чьей смерти желал. К счастью, как мне сказал знакомый искусствовед, рисунки углем обычно не просвечивают рентгеном.
А если говорить о внешнем слое — люди, которые не присматриваются к моим работам, принимают их за фотографии. Но чем ближе они подходят к ним, тем более теряются: это и не традиционная фигуративная живопись, и не модернистская абстракция, а нечто среднее. Будучи предельно детализированными, мои рисунки всегда остаются зыбкими и немного незавершенными, и именно поэтому они ни при каких обстоятельствах не могли бы быть фотографиями.
— Что для вас как для художника первично — форма или содержание, идея?
— Я сформировался под влиянием художников-концептуалистов, они были моими героями. А для них идея первостепенна. Невозможно игнорировать форму, но идея чрезвычайно важна. С тех пор как искусство перестало служить церкви и государству, художник снова и снова должен самому себе отвечать на вопрос — а что вообще за хрень я делаю? В 1970-е годы я мучительно искал форму, в которой мог бы работать. Я мог выбрать любую: художники-концептуалисты и минималисты деконструировали все возможные способы создания искусства. Все что угодно могло быть искусством. Мое поколение занималось апроприацией образов, нашим материалом стали изображения изображений. Я снимал фото и видео, ставил перформансы, делал скульптуры. Со временем я осознал, что рисунок находится где-то между «высоким» искусством — скульптурой и живописью — и чем-то совершенно маргинальным, даже презираемым. И я подумал: а что если взять и увеличить рисунок до масштабов крупного полотна, превратить его в нечто грандиозное, подобно скульптуре? Мои рисунки имеют вес, они физически взаимодействуют с пространством и зрителем. С одной стороны, это совершеннейшие абстракции, с другой — мир, в котором я живу.
![]()
Фото: Sergey Karpov
Роберт Лонго и Кейт Фаул в Российском государственном архиве
литературы и искусства
Детали от Posta-Magazine
Выставка открыта с 30 сентября по 5 февраля
Музей современного искусства «Гараж», ул. Крымский Вал, 9, стр. 32
О других проектах сезона: http://garagemca.org/