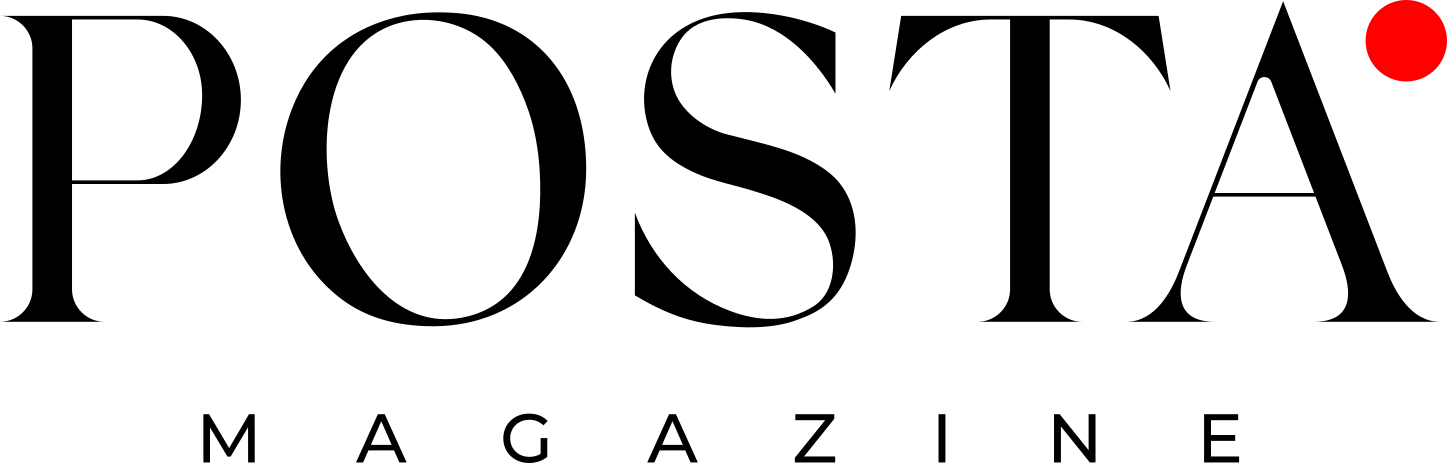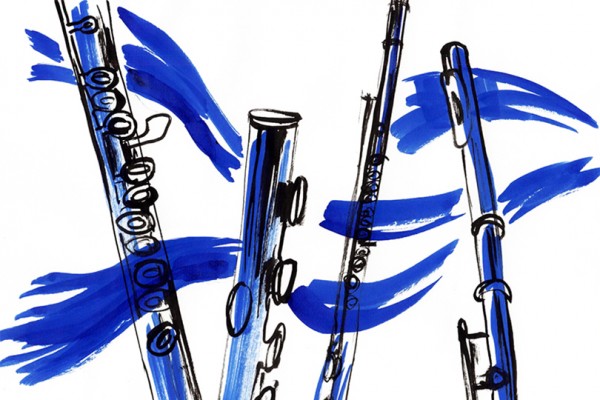В своей новой колонке Сергей Кумыш продолжает писательское исследование органов чувств, на этот раз обращаясь к звуку и музыке.
Наши отношения с музыкой гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Научиться ее слушать и слышать — значит кожей ощутить ее внутреннее содержание, свет и цвет. Да-да, именно цвет.
В небольшом рассказе Жана-Мари Гюстава Леклезио «Небесные жители» слепая от рождения девочка пытается разгадать значение слова «синева» и, когда находит ответ, прозревает. У синевы в ее понимании есть раскаленный центр, который жалит лицо и руки, если стоишь, повернувшись в его сторону, или идешь ему навстречу. Девочке пытаются объяснить, что это просто солнце, но она отказывается верить, не может согласиться. Солнце — источник жизни, света и тепла; жар, исходящий из центра синевы, на самом деле холоден и агрессивен.
Мне нравится этот образ холодного жара. Когда раньше я слышал звук флейты, то чувствовал себя той самой слепой девочкой, которая силится, но пока не может постичь, что же все это значит. Внутреннее сходство усиливалось еще и потому, что для меня флейтовый звук — синий.
Как, наверное, большинство советских, да и постсоветских школьников, в детстве я учился музыке и какое-то время продолжал заниматься в юности. Не думаю, что у меня были амбиции стать выдающимся или даже просто натренированным флейтистом. Скорее, я делал это потому, что меня притягивал звук, но по-настоящему я его не понимал, не чувствовал и пытался найти его разгадку (хотя в то время так это не формулировал). Однажды во время урока преподаватель поставил мне запись тогда еще молодого франко-швейцарца Эммануэля Паю — вроде как с целью подстегнуть мой интерес, показать, чего можно добиться, если проявлять должную настойчивость и обладать определенным количеством исполнительской наглости. Эффект получился ровно противоположным. Через несколько месяцев я прекратил занятия и с тех пор больше не брал инструмент в руки.
![]()
Сказать, будто я осознал, что никогда не смогу играть на том же, что и Паю, уровне, будет неверно, если не глупо. Просто я наконец нашел ровно то, что искал: услышал, как на самом деле должна звучать флейта, понял, для чего она предназначена; что произведения для флейты пишутся не ради красивой мелодии, а именно для флейты — первопричина здесь не музыка, а инструмент и его возможности. Следующие несколько месяцев я продолжал тренироваться (назвать это игрой не могу, там было гораздо больше от спорта). И в какой-то момент разобрался с еще одним важным вопросом: как Паю это делает. Выдул буквально три-четыре ноты с той же легкостью, силой и отдачей — то есть мне не показалось, все это действительно возможно, все так и есть. Вот только музыканту нужна вся музыка, мне же хватило трех нот. И именно эти несколько нот, своеобразный код Паю — самое драгоценное, что я извлек из многих лет упорных (и не очень) занятий, от которых вскоре отказался.
В последующие десять лет я потратил на прослушивание музыки немногим больше десяти часов. Дело было примерно в следующем: я научился слышать, но слушать по-прежнему не умел. Как андроид из одного прекрасного романа, которому в микросхемы встроили способность распознавать красоту. Не научили только одному — чувствовать. Вот и я копался в своих микросхемах и ничего там не находил, кроме зеленого пластика и золотистых прожилок меди. Вокруг был целый мир, но пользоваться его благами я не мог. В той книге человекоподобный робот однажды выходит на берег вечернего озера и поначалу даже не осознает, что вообще происходит, но потом понимание возникает само собой: ему открылись величие и простота красоты. Он начал чувствовать красоту, лишь когда оставил все попытки этому научиться.
Спустя десять лет или около того я более-менее случайно услышал относительно старую запись ре-мажорной флейтовой сонаты Прокофьева в исполнении все того же Эммануэля Паю и пианиста Стивена Ковачевича. Собственно, я и раньше не раз ее слышал, но пытался вникнуть в музыку, лишь отчасти понимая, какую именно роль здесь играет собственно флейта. Мелодия, тема уводили в сторону, тогда как определяющим фактором в любом произведении, написанном для конкретного инструмента, является его звук. Музыка рождается из звука — не наоборот (банальность, которая, если разобраться, далеко не столь очевидна), я же хотел что-то понять про звук, следуя за мелодией. Этакое путешествие из Петербурга в Москву через Владивосток.
И вот наконец я услышал именно флейту и фортепиано, два голоса, из которых рождался мотив — нечто важное, что раньше мне было недоступно. (Это как слушать диалог двух людей, пытаться уловить его суть, не вдаваясь при этом, что и как каждый из них говорит в отдельности. С людьми мы ведем себя иначе, но музыку при этом почему-то чаще всего слушаем именно так.) Я услышал непредвзято и отстраненно, что вытворяет Паю со своей дудкой.
Низкие ноты, взрыхленные, дробящиеся, осязаемые — хлебные крошки, падающие на землю, хлебные крошки, липнущие к влажной ладони. Высокие ноты, легкие и сухие, как китайский шелк, с тихими, едва различимыми призвуками: трущиеся друг о друга жемчужины, насаженные на нить ожерелья. Пружинистые стаккато — как будто запущенная мальчишкой галька радостно шлепает по воде. И один из его коронных приемов — на тончайшем пианиссимо выдувать звук до такой степени плотный и тугой, что в нем слышатся уже не флейтовые, а кларнетные обертона — нечто, лежащее за пределами возможностей инструмента.
![]()
Именно об этом, как мне кажется, писал Леклезио, именно этого ждала и искала придуманная им девочка. Вот она, синева, взрезающая пространство, раскрывающая свою суть, проникающая в сознание даже слепого от рождения человека, чтобы и он мог ощутить эту бритвенную остроту, эту глубокую природную яркость. Цвет, который точно так же — вопреки логике и общепринятым физическим законам — наполняет изнутри звук моего самого любимого на свете музыкального инструмента. Его буйный, неуемный, агрессивный холодный жар.
Звук, про который ты сначала все понял, изучил его свойства и лишь потом наконец впервые по-настоящему услышал. Звук, в который теперь можно вглядываться снова и снова, как в ту самую внезапно открывшуюся бездонную синеву. Выяснив для себя, что же такое синева, главная героиня «Небесных жителей» внезапно ее увидела. Девочке больше не надо нащупывать синеву в окружающем пространстве, подставлять лицо и руки ее испепеляющим лучам. Теперь она видит. И синева, как все живое, познанное и присвоенное, постепенно становится теплой.
И последнее, чтобы не оставалось определенных иллюзий и недоговоренностей. Большую часть времени я ничего этого не слышу — лишь один жалобный металлический голосок, подпускающий воздуха в симфоническое звучание и выжимающий слезу в фильмах про Ирландию. Если при каждом прослушивании ежесекундно ощущать, что там на самом деле происходит, можно запросто сойти с ума. Но звук так или иначе теперь достигает моих ушей, как и синева, однажды коснувшись внутреннего зрения слепой девочки, отображается на вновь обретенной сетчатке. После того как объект внутреннего поиска наконец найден, вам друг от друга уже никуда не деться.