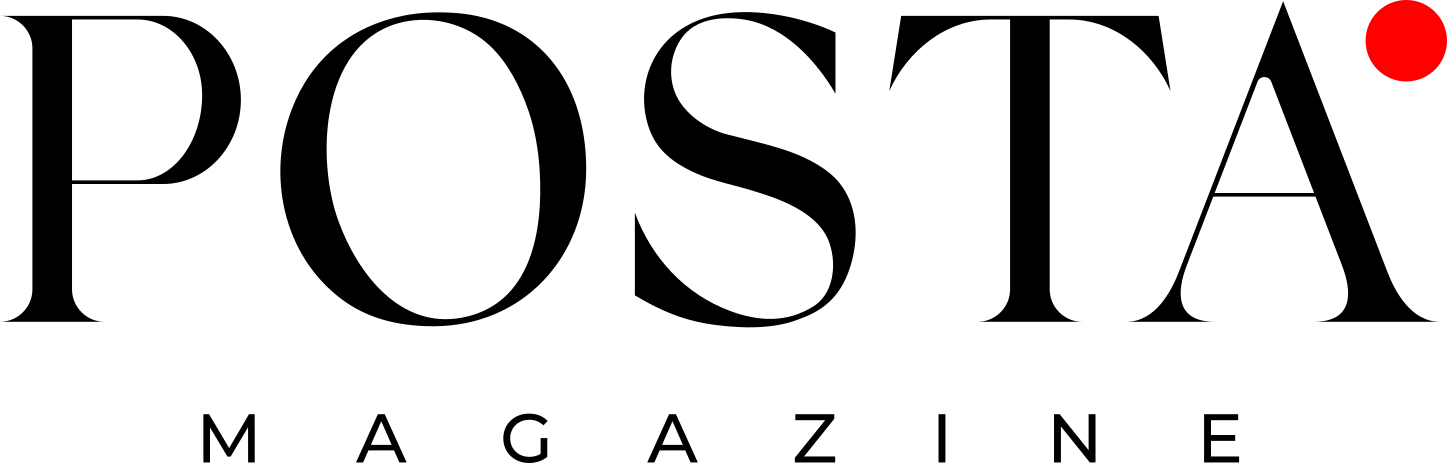В издательстве «КоЛибри» вышел мемуарный роман режиссера и писателя Евгения Гришковца «Театр отчаяния, Отчаянный театр».
О несхожести, а порой несовместимости правды жизни и правды художественной, беспричинности любви и недоверии компьютерам с автором поговорил литературный обозреватель Posta-Magazine Сергей Кумыш.
Евгений Гришковец — автор более двадцати книг, среди которых три романа, две повести, семь сборников эссеистики, многочисленные пьесы и рассказы. На сегодняшний день «Театр отчаяния» — его самая объемная литературная работа: девятисотстраничный мемуар состоит из восьми объединенных общим сюжетом глав-повестей. Все начинается с первого самостоятельного похода в театр семнадцатилетки из города Кемерово, а заканчивается показом моноспектакля «Как я съел собаку», прославившего Евгения Гришковца как в России, так и далеко за ее пределами. Однако фабула, известная каждому, кто хоть сколько-нибудь знаком с тем, что делает Гришковец, здесь далеко не самое главное.
Сергей Кумыш: Впервые вы упомянули, что собираетесь писать большой мемуарный роман, еще в 2014 году. Когда вы начали над ним работать?
Евгений Гришковец: Первую страницу я написал 23 января 2016 года, но жанр романа как таковой там еще не был заявлен. Несколько позже я понял, что действительно пишу роман, причем в традициях XVIII века, и хочу, чтобы он был исключительно литературен — на уровне замысла, происхождения, исполнения, чтобы не перемешивался с другими видами искусства. Отсюда, например, это традиционное обращение к Пытливому Читателю, пришедшее из английского романа. Также в саму ткань повествования вплетено большое количество отсылок к другим книгам и авторам, потому что мне было важно дать определенный культурный контекст. Сообщить таким образом, откуда взялся автор, из чего он, грубо говоря, вырос. То есть это во многом была такая литературная игра, но игра серьезная.
—
Насколько я знаю, книжка писалась с достаточно большими перерывами?
—
Да, и один был прямо особенно длинный, несчастный. Но основная часть была написана все-таки в 2017 году: начиная с октября, я работал по шестнадцать часов в сутки, превратился в этакое производящее литературу существо. Впервые в жизни оказался в той самой литературной трубе, о которой раньше лишь слышал от других писателей, — когда все получается.
![]()
—
Но вынужденные остановки в начале — они влияли каким-то образом на процесс?
—
Было сложно включаться по новой. Даже если ты отрываешься от работы, не знаю, на десять дней, это уже своего рода сбой, после которого нелегко себя организовать. Я же в основном занимаюсь театром — спектакли, переезды, гостиницы — все это с литературным процессом малосовместимо. Писать я могу только дома. Да я даже чай пить могу только дома, уже давно в этом убедился. Мне нужен мой чайник, моя чашка. Точно также и для работы мне нужны идеальные условия: кабинет, мои вещи, ручки и так далее.
—
При этом вы рассказывали, что предыдущую книгу «Боль» писали чуть ли не в аэропортах и самолетах.
—
Нет, я ее сочинял, придумывал в аэропортах и самолетах. То есть вроде как писал, но в голове, а со временем уже просто перенес на бумагу, не отрываясь. И потом — книжка «Боль» очень маленькая, а у меня в этом смысле тренированная память — я же запоминаю огромные объемы текста, у меня в голове хранится как минимум семь двухчасовых моноспектаклей. Поэтому в принципе я могу форматировать и даже редактировать текст, физически к нему не притрагиваясь.
—
«Театр отчаяния, Отчаянный театр» — ваш третий роман. Но если в «Рубашке» и «Асфальте» главный герой, возможно, чем-то был на вас похож, все равно в большей степени оставался персонажем вымышленным, собирательным. Здесь же вы по сути укладываете в романную композицию собственную жизнь. Это принципиально другая техника и, как мне кажется, куда более сложная.
—
Да. Когда я только начинал писать этот роман, то и представить себе не мог, какой придется проделать труд. Просто не ожидал. Я искренне полагал, что будет намного легче. Оказалось, что все это чревато серьезными последствиями. Уже одно то, как ты работаешь с воспоминаниями, превращая их в литературу, — совсем не то же самое, что воспоминания, скажем, в кругу друзей. Это намеренное погружение в прошлое с целью поиска материала. Похоже на ныряние за жемчугом. А мы знаем, сколько ныряльщиков погибло в этом процессе. К тому же, работая над книгой, я понимал, что оставляю неназванными, замуровываю в собственной памяти многих дорогих мне людей. Мои дедушка с бабушкой в книге едва упоминаются. О родителях, особенно о маме — почти ничего нет. Про родного брата я там не пишу вовсе. Даже главный герой, лично я, ни разу не назван по имени. Есть люди, которых я любил, но которые роману были не нужны — и они там не упомянуты ни разу. И, выходя из воспоминаний, я понимал, что оставляю там этих людей навсегда, потому что вряд ли у меня в жизни будет намерение, да и время снова туда вернуться. Поэтому в работе с воспоминаниями есть серьезная опасность — выбравшись оттуда, остаться абсолютно несчастным человеком на всю жизнь.
![]()
—
Основная часть действия «Отчаянного театра» происходит в Кемерово, но также вы достаточно подробно описываете другие города, где вам приходилось бывать, — Томск, Челябинск, Питер, Ригу, Берлин. И на мой взгляд, эти самые другие города получились у вас гораздо более выпуклыми, что ли.
—
Здесь все просто — беспричинная любовь. Труднее всего описывать любимого человека. Но заниматься этим можно бесконечно — всегда, всю жизнь. И ни у кого при этом не сложится некоего портрета, цельной картинки, фоторобота. Ты сам никогда не согласишься, что получившийся фоторобот — тот самый человек. То же и с городами — многие из них мне нравятся, а Кемерово я люблю, какой бы он ни был. Кстати говоря, когда я там жил, его название не склонялось. Поэтому если сейчас я слышу, как кто-нибудь говорит, например, «в Кемерове», мне это режет слух. Как будто любимого человека назвали чужим именем.
—
Еще один любопытный момент: примерно половина событий происходит во времена Советского Союза, который вы при этом упорно называете Россией.
—
Да, а Ленинград — Питером. Мне было важно, чтобы в тексте не возникало ощущения архаики, временного и географического разрыва. Чтобы время в книге было непрерывным. Поэтому же, в частности, там не указано ни одной даты, только косвенные приметы. Год, когда к власти пришел Горбачев, упоминается, год объединения Германии — тоже. Но самих по себе дат вы там не найдете.
![]()
—
А были какие-то куски, которые в процессе работы давались особенно тяжело?
—
Максимально трудные куски — те, что связаны с описаниями пантомимы, спектаклей и устройства театра в целом. Сложнее всего в этом смысле было писать о спектакле театра DEREVO. Мне было необходимо, чтобы у читателя возникло визуальное ощущение происходящего на сцене, но при этом через внутреннее состояние, через призму восприятия главного героя, который на все это смотрит. Ничего сложнее я в жизни не писал. Потом, в главе «Безмолвие», посвященной службе на флоте, есть история о повесившемся матросе. Его обнаружили мы с товарищами, то есть я при этом присутствовал — видел висящего в петле мертвого человека, которого хорошо и долго знал живым. И во время работы я понял, что не смогу это описать. Потому что это будет сплошной концентрированный ужас, художественно ничем не оправданный. И я долго не понимал, как это сделать, пока в конце концов не покривил против факта: вложил упоминание об этом эпизоде в короткую реплику другого персонажа. То есть как бы самоустранился, чтобы впоследствии никого этим не мучить — ни себя самого, ни читателя. Потому что в конечном счете это факт биографии, напрямую не имеющий к роману никакого отношения.
—
Кстати говоря, мне как человеку, тоже служившему, главу «Безмолвие» было читать тяжелее всего. Но, притом что там описаны совершенно чудовищные вещи, вам удалось, как мне кажется, найти те самые единственно возможные интонацию и язык, которыми об этом вообще стоит говорить.
—
Да. Существует определенная традиция литературы о военной службе — «Сто дней до приказа» Полякова и далее по списку. Так вот мне было очень важно, чтобы то, что я написал, эту литературу никоим образом не напоминало. Было ли сложно над этим материалом работать? Безусловно. В первую очередь потому, что я знал: это прочтут мои мама, жена и дочь. То есть мне приходилось не то чтобы под них подстраиваться, но соблюдать определенную меру, чтобы они не стали после этого смотреть на меня другими глазами — они никогда ничего подобного от меня не слышали. Вообще никто не слышал. Но также мне было необходимо сделать это, чтобы люди, видевшие «Как я съел собаку», смогли узнать, от чего мне в создании этого спектакля пришлось отказаться. От чего необходимо было отказаться. Потому что определенные вещи возможны только в литературе. Непосредственно в театре, когда человек что-то рассказывает или произносит, глядя в глаза другому живому существу, это сделать не получится, не выйдет. Это будет кошмар. Это будет невыносимо. Один не сможет говорить, потому что, скорее всего, разрыдается, а другой не сможет слушать. Отсюда и язык — как бы репортажный, отстраненный. Как будто смотришь сам на себя со стороны. Такое часто происходило на службе. Я думаю, вы сами прекрасно помните, как это бывает: когда становится совсем невыносимо, ты отстраняешься, начинаешь смотреть на все как бы глазами наблюдателя.
![]()
—
Ну да, немножечко в третьем лице.
—
Хочу повториться: присутствие этой главы мне было нужно в том числе для того, чтобы стало известно, от чего пришлось отказаться. Из чего, по сути, соткан спектакль «Как я съел собаку» и что при этом в нем ни разу не звучит.
—
К слову, о спектакле «Как я съел собаку». В романе есть эпизод, где вы описываете потрясшую вас пластическую импровизацию, которую увидели на фестивале в Челябинске, — человек, исполнявший пантомиму, посреди номера внезапно заговорил: «Мама, мама, сегодня первых двух уроков нету». Все это происходило задолго до того, как вы сделали «Собаку», но, я так понимаю, это прямо первое зернышко было?
—
Да, да, да, конечно! Это было сильнейшее впечатление. Я тогда впервые услышал то, каким образом одна фраза может вовлечь человека в мощнейшие процессы воспоминаний. И я понял, что это, конечно, потрясающе, но тогда еще не знал, как этим можно управлять. Скажем, вот есть электрическая энергия в виде молнии, но как ее поймать? Как это вообще возможно — удержать в руках молнию? То есть да, это был своего рода отправной момент: от абсолютного безмолвия я в итоге пришел к театру, цель которого — управление этой самой неуловимой вроде бы силой. И я отдаю себе отчет в том, что так осмысленно, подробно, внятно и бережно, как я, этим никто пока еще не занимался. В тех краях, где я в одиночку брожу уже больше десяти лет, никто пока не побывал. А мне, во всяком случае пока, — удается, я это точно знаю.
—
Давайте еще на какое-то время вернемся к литературе. Насколько я знаю, вы пишете исключительно от руки. С чем это связано — так и не освоили компьютер?
—
Я его не освоил в той степени, чтобы полноценно на нем работать. И потом, на клавиатуре человек пишет быстрее, чем при помощи ручки и бумаги, а мне необходимо определенное сопротивление материала. Если у меня есть возможность, скажем, диктовать уже обдуманный в голове текст, в итоге получается гораздо длиннее, чем если бы писал от руки. Потому, если бы я писал «Театр отчаяния» на компьютере, он бы, наверное, вышел вдвое больше. А книжка и так немаленькая.
![]()
—
В процессе работы вы кому-то показываете готовые куски? Советуетесь с кем-нибудь?
—
Нет, никому ничего не показываю и не советуюсь. Моя жена набирала текст нового романа на компьютере, то есть она, по сути, была первым читателем. Потом я его редактировал, но не получал от нее советов — она знает, что это контрпродуктивно. Не потому что я какой-то недотрога в этом смысле, нет, просто, я же очень медленно работаю, поэтому всегда точно знаю, чего именно хочу, что должен, что обязан написать. И точно так же знаю, от чего в итоге стоит отказаться.
—
А вы каким-то образом проговариваете идею, когда работаете, рассказываете о ней?
—
Нет. Иногда, когда готовлю спектакль, я проговариваю в небольших компаниях какие-то отдельные куски, но, опять же, более-менее готовые. При этом люди не знают, что это написанный текст, — такая провокация в некотором роде. А идеей книги я просто не могу поделиться. Если замысел романа укладывается в короткую фразу, во внятное сообщение, то зачем вообще его писать? Точнее, тогда сразу ясно, что писать его не надо. Замысел романа равен самому роману. В моем случае — 900 страниц.
![]()