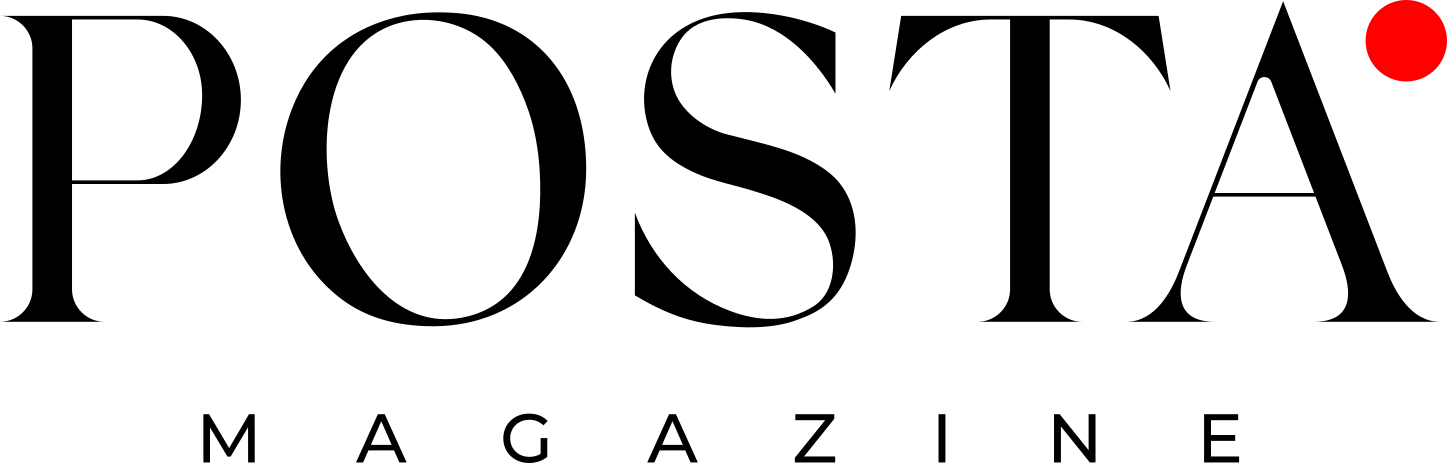Музей русского импрессионизма увез свою постоянную экспозицию на гастроли в Болгарию до конца ноября. Но можете не беспокоиться, залы музея пустовать не будут — они отданы под масштабный проект «Элизии» известного художника Валерия Кошлякова.
Об этом и о специфике работы
в частном музее Posta-Magazine рассказала его директор Юлия Петрова.
«Это моя любимая работа и, несомненно, мой счастливый билет, — признается Юлия, едва только мы начинаем беседу. — У нас такой узкий рынок труда и так мало возможностей проявления, государство выпускает гораздо больше людей моей специальности, чем требуется. Многие мои сверстники даже не надеются работать по специальности. И уж тем более не приходится рассчитывать на то, чтобы стать директором музея. Это то, о чем, в общем, мечтать не приходится, и планы такие строить тоже не приходится. В юности никто не говорит: „Вот закончу институт и стану директором музея“».
Как бы там ни было, в жизни Юлии Петровой все сложилось именно так, как сложилось. Несколько лет она была куратором частной коллекции бизнесмена и мецената Бориса Минца, а после открытия Музея русского импрессионизма стала его директором. И в этом, безусловно, есть свои плюсы и минусы, — признает сама Юлия. Встречи с семьей, например, становятся редкими, потому что большая часть времени проходит в стенах музея.
Ника Кошар: Юлия, вы всегда так красиво рассказываете о своей работе. Но вы все-таки искусствовед. И, став директором, вам наверняка пришлось взять на себя массу административных дел. Насколько это было сложно для вас?
Юлия Петрова: Ну конечно, это то, чему мне приходится учиться и сегодня. Вообще, в нашем обществе существует штамп, что искусствоведы или «люди искусства» — это очень одухотворенные и исключительно вздыхающие под луной люди. К счастью для меня, я человек довольно рациональный: так же, как историю искусств, я всегда любила и математику, мне в ней комфортно. А то, что происходит в музее, чаще подчиняется чутью и здравому смыслу. И если у тебя есть чутье и чуточку здравого смысла — оно работает. Конечно, надо многому учиться: и административным навыкам, и навыкам управления. Собралась команда, и ею надо руководить.
![]()
— Вы сами собирали команду?
— Да, сама. Каждого, кто здесь работает, я подбирала лично, и твердо могу сказать, что каждый из наших сотрудников (чаще, конечно, сотрудницы) — редкая находка. И все они увлечены своим делом.
— Насколько амбициозны планы у музея?
— Вы знаете, когда Борис Минц предложил мне поучаствовать в создании музея и поделился со мной своим желанием его открыть, мне показалось, что это —чрезвычайно амбициозный план. Но поскольку он осуществился, то, в принципе, все, что мы планируем, уже не так и страшно. Например, выставки за рубежом. Собственно, мы их уже проводим: у нас состоялись выставки в Венеции, во Фрайбурге, 6 октября откроется очень красивая выставка в Национальной галерее Болгарии. Конечно, хотелось бы «охватить» не только Европу, но и Восток, и Соединенные Штаты, но есть сложности юридического характера, межнациональные, не просто музейные. Конечно, хочется и в этих стенах делать необычные проекты, и привозить художников первого ряда: и русских, и западных, и современных (как Кошляков), и классиков. Я сама больше тяготею к классике.
— Ну, Кошляков, мне кажется, это такой симбиоз классики и современности. Он где-то между.
— Да. Он из тех художников, которые, как он сам формулирует, занимается живописью. В отличие от основной массы современных художников contemporary art, которые создают концепции. Его отличие также в том, что каждое отдельное произведение является произведением и без контекста, без концепции. Поэтому он так востребован, его любят, он, я знаю, хорошо продается, и любое появление картин Кошлякова на аукционах — это всегда событие.
![]()
Валерий Кошляков, Юлия Петрова и Борис Минц
— Скажите, а вы были готовы к тому, что название «Музей русского импрессионизма» в мире искусства будет так долго оспариваться?
— Абсолютно. Еще в то время, когда мы только планировали создавать музей, мы с Борисом Иосифовичем вели многочасовые беседы о том, как это сделать правильно. И мы понимали, что термин «русский импрессионизм» — крайне спорный и, вместе с тем, очень емкий. Можно его оспаривать с искусствоведческой точки зрения, хотя должна сказать, что крупные специалисты не вступают в полемику на этот счет. Но это термин, который моментально рисует определенную картинку. А то, что искусствоведы ломают копи и спорят, — ну, да, так и есть. Очень уважаемый мною петербургский искусствовед Михаил Герман написал целую книгу под названием «Импрессионизм и русская живопись», основная идея которой в том, что русского импрессионизма никогда не было и не существует. Вместе с тем, есть блестящие специалисты, такие как Владимир Леняшин или Илья Доронченков. В общем, мы пошли на это осознанно и понимая, что да, за название придется побороться, и что по голове нас за это не погладят. Но, с другой стороны, караван идет…
— А расскажите, пожалуйста, как формировалась основная коллекция? Как происходило главное таинство?
— Вы наверняка знаете, что наша постоянная экспозиция основывается на собрании Бориса Минца. Любая частная коллекция сначала собирается по вкусу приобретателя. Потом, обыкновенно, коллекционер понимает логику того, что он приобретает, и вдруг, в какой-то момент, становится понятно, что то, что ты собираешь, имеет некую канву. Дальше в эту канву начинаешь добавлять те произведения, без которых ничего не получится. Так, например, уже зная о том, что музею быть, я задумалась о том, какими картинами можно дополнить коллекцию, чтобы постоянная экспозиция была представительной, чтобы она отвечала на вопросы, которые у зрителей возникают. Для меня стало очевидно, что в этой коллекции должны быть, например, работы Юрия Пименова. И мы две его работы приобрели. Так коллекция становится все более полной, она прирастает, в нее добавляются необходимые фрагменты.
![]()
— Слово «апгрейд» сюда подходит?
— Скорее, «нанизывание». Это как собирание пазла: он прирастает с разных своих сторон, а ты пытаешься сделать так, чтобы он был законченный и добавляешь детали с разных сторон.
— У вас здесь есть любимое место?
— Любимые места меняются, и это связано с переменами экспозиций, которые происходят в нашем музее. Раньше я, например, очень любила постоять у центральной картины на выставке Лаховского, на 3-м этаже. Сейчас — это, пожалуй, сакральное пространство на минус первом этаже. Пространство музея позволяет менять геометрию залов, и в этом его безусловное преимущество. Здесь под каждую выставку можно делать что-то новое. Я думаю, четыре раза в год у нас будет что-то меняться. Еще у меня в кабинете хорошо (улыбается).
— А как насчет любимых музеев и галерей? Из которых вам хотелось бы что-то привнести сюда и скопировать?
— Так, наверное, нельзя сказать, но, безусловно, есть люди и команды, у которых учишься. На меня в свое время произвело большое впечатление то, как была организована Пинакотека Парижа, которая закрылась минувшей зимой, к моему большому сожалению. Это был блестящий музей, который два раза в год делал экспозиции исключительно первых имен —показывали Мунка, Кандинского, Ван Гога, Лихтенштейна.
![]()
![]()
— В обществе бытует стереотип, что директор музея — это такая дама в возрасте, умудренная опытом. И вот передо мной вы — молодая, красивая, успешная. Пришлось ли вам доказывать людям, что вы способны быть лидером?
— Вы знаете, скорее нет. Конечно, как говорил герой «Покровских ворот», «когда выходишь на эстраду, стремиться нужно к одному: всем рассказать немедля надо, кто ты, зачем и почему». К счастью моему, я не первая, молодые директора музеев успешно существуют, поэтому тут не надо искать драму. Слава богу, что есть и то, и другое. Я очень благодарна Борису Иосифовичу за то, что он доверяет молодым. У нас молодая команда, но это очень здорово. Наверное, нам где-то не хватает опыта, я готова это признать, хотя мы, как мне кажется, быстро учимся.
![]()
Валерий Кошляков. Фрагмент инсталляции «Элизиум». 2016, холст, темпера, дерево.
![]()
Валерий Кошляков. Проект «Элизии». Фрагмент инсталляции. 2016 холст, темпера
![]()
Валерий Кошляков. Проект «Элизии». Фрагмент инсталляции
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()